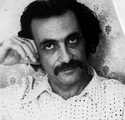|
ЗАВЛЕКАЮТ В СОЛОЛАКИ… (ТУМАНЯН) |
|

Эта сололакская улица умудрилась оказаться одновременно и у выезда из города, и, практически, в самом его центре. С ней связаны и замечательные легенды, и не менее замечательные хитросплетения тбилисских реалий. Ее исконное имя Вознесенская (по-грузински – Амаглебис) вернулось к ней в последнее десятилетие. А в прошлом веке мы прочтем это название на страницах многих русских писателей и поэтов – как один из главных символов литературной жизни Тифлиса.
Именно в ее переулок поселил Константин Паустовский свою Маргариту – ту, которую любил нищий и гениальный художник Пиросмани. И именно сюда легко плыли арбы, нагруженные цветами со всех гор и полей Грузии. Причем, были это не только алые розы, которые позже воспел Андрей Вознесенский. «Каких цветов тут только не было! Поздняя иранская сирень. Там в каждой чашечке скрывалась маленькая, как песчинка, капля холодной влаги, пряной на вкус. Густая акация с отливающими серебром лепестками. Дикий боярышник - его запах был тем крепче, чем каменистее была почва, на которой он рос… Изящная красавица жимолость в розовом дыму, красные воронки ипомеи, лилии, мак, всегда вырастающий на скалах именно там, где упала хотя бы самая маленькая капля птичьей крови, настурция, пионы и розы...». И если в легенде эта улица объединила столь непохожие цветы, радуясь каждому неповторимому аромату, то в жизни она сумела связать воедино множество поэтических строк, написанных на разных языках: грузинском, армянском, азербайджанском, русском… И не было различия и непонимания между поэтами, переводившими друг друга.
Голос одного из них, звучавший в одном из самых верхних домов - под номером 45, принадлежал армянскому поэту Кара-Дарвишу. Пожалуй, единственному в мире, выпустившему полное издание своих стихов на… почтовых открытках. Его блестяще переводил Осип Мандельштам. А сам Акоп Генджян - таково настоящее имя этого человека – не менее блестяще перевел на русский язык и народного поэта Армении и Азербайджана Ширванзаде, девять лет прожившего в Тифлисе, и великого американца Уолта Уитмена. В 1910-м он увлекся футуризмом и, конечно же, подружился с Владимиром Маяковским, который даже написал его портрет. Был он неразлучен и с братьями Зданевичами, один из которых, Илья, призывал: «Читайте Кара-Дарвиша – Уолта Уитмена Востока!». Кто только не поднимался к Кара-Дарвишу по этой улице! И каждый проходил мимо Сололакской Спасо-Вознесенской церкви, в честь которой она и названа. Как и у многих других церквей, попавших под руку воинствующих атеистов, у этой – своя драматическая судьба.
Построил ее в 1852 году замечательный человек, выдающийся историк Платон Иоселиани. Причем, на собственные деньги, по плану церкви, находящейся в Греции. А через 13 лет после этого он был похоронен в ее стенах. Когда храм разрушили коммунисты, могильную плиту перенесли в Дидубийский пантеон. Но надпись на ней по-прежнему извещает, что Иоселиани «похоронен под сенью выстроенной им церкви». А сколько людей, приезжавших из России, приходило к алтарю Спасо-Вознесенской церкви, чтобы поклониться погребенному под ним праху княжны Елены Долгорукой! И не только потому, что она родилась в одной из самых известных российских семей. Елена Павловна была бабушкой совершенно замечательных, вошедших во всемирную историю внуков - графа Сергея Витте и его кузины, основательницы Теософского общества Елены Блаватской… Сейчас на этом месте стоит новая церковь, а улице возвращено старое название. Наверное, второе справедливо, хотя то, которое произносили поколения горожан, выросших после революции, вполне соответствовало неписанной традиции – давать сололакским улицам имена литераторов. Она была названа в честь Иосифа Давиташвили – первого грузинского рабочего поэта, жившего во второй половине XIX века. Но никакие переименования не могли лишить эту улицу неповторимого колорита, который по сей день хранит ее крутизна.
Ну, а если эта крутизна утомит нас, можно присесть отдохнуть. Прямо на ступеньку дома №18. Точно так же, только чуть выше, в подъезде, сидел в 1916 году… основатель русского символизма Валерий Брюсов. Он, уже в который раз, был здесь в гостях, беседовал о литературе, а, поняв, что время позднее, поспешил распрощаться. Но, открыв дверь, изумленный хозяин дома видит поэта сидящим на ступеньках и что-то пишущим в блокноте. Оказывается, Брюсов решил «по горячим следам» записать все, о чем шел разговор. Потом хозяин дома признавался: он никогда не смог бы записывать весь прошедший день. Что ж, он уже столько написал к тому времени (и как написал!), что был признан величайшим поэтом своего народа. Это очень похоже на очередную легенду, но именно так все и было. Потому что хозяина дома звали Ованес Туманян. И Брюсов стремился не забыть ни одного слова из беседы с живым классиком. «Патриарх армянской поэзии»… «хлеб наш насущный»… «мерило человеческой порядочности, благородства, праведности»… Давайте, приглядимся к сололакцу, о котором в его родной Армении звучали и продолжают звучать такие слова. И который даже запечатлен там на купюре в 5.000 драм.
Ованес становится тифлисцем в 14 лет, приехав вместе с отцом в 1883-м из армянского села Дсех в главный культурный и политический центр Закавказья. Здесь он прожил почти четыре десятилетия, до конца своей жизни, оборвавшейся в одной из московских больниц. Однако похоронен он именно в Тбилиси, а вот с сердцем поэта – особая история. Сын Арег привозит его в формалине на Вознесенскую-Давиташвили, и оно 25 лет хранится там, в небольшом шкафчике кабинета. Потом его перевозят в Ереван, а в 1994-м оно захоронено в небольшой сельской часовне рядом с отчим домом Туманяна. Но его биение продолжает звучать в грузинской столице, которую, при первой встрече, Ованес увидел такой: «Повсюду раздавались звуки зурны, дхойла, дайры, нагара, смех, песни - и все это прямо на улицах или на крышах домов, особенно по вечерам. А уж по воскресеньям и праздничным дням - только держись! Разодетый, нарядный город гремел и звенел. Можно было только удивляться, когда же успевают работать эти люди, постоянно пляшущие и поющие».
Жизнь, конечно же, быстро доказывает, что она – отнюдь не постоянный праздник. Ованес женится рано – в 19 лет, у него –10 детей, и он вынужден служить, как тогда говорили, в «присутственных местах». Но вольнолюбивый поэт и услужливый чиновник – «две вещи несовместные». И Туманяну удается навсегда оставить службу, которую он сравнивает с адом, и полностью уйти в литературу. Так в Сололаки разгорается еще один очаг, согревающий творческий люд. Сначала его свет шел с четвертого этажа дома №44 на Бебутовской улице (ныне – Ладо Асатиани). Там Ованес в 1898 году создает общество, так и названное - «Вернатун» (верхний дом, горница) - литературно-художественный салон для армянской интеллигенции. В комнате, где дважды в неделю проходят собрания, месяцами живут всевозможные многочисленные гости. И вообще, в многолюдном доме жизнь идет веселая и шумная. Все эти традиции в 1904-м переселяются, вместе с семьей поэта, на Вознесенскую улицу, в здание, которое и сегодня тбилисцы именуют не иначе, как Дом Туманяна.
Ох, как популярен это дом в начале ХХ века! Теплыми ночами можно увидеть (а вернее, услышать), как приходят к нему после своих дискуссий-застолий грузинские поэты-«голубороговцы»: «Святейший Ованес, дай лицезреть тебя!». Об этой традиции, ставшей частью литературной жизни Тифлиса, рассказывает Нина Макашвили, на свадьбе которой с Тицианом Табидзе почитаемый все городом поэт был почетнейшим гостем: «На балкон, спросонья надев халат, выходил Ованес Туманян, убеленный сединами, с лицом святого, с удивительно доброй улыбкой... Иногда мы все-таки заходили в его на редкость ароматную комнату. Он садился, как патриарх, во главе, а мы все размещались вокруг жаровни, с помощью которой он обогревал свою комнату. Он бросал на угли какие-то бумажки, они сгорали — от них-то и шел тот удивительный аромат»... А вот, что чувствует сам Тициан, когда Туманяна не стало, и подобные встречи остались в памяти еще одним переплетением тбилисских легенд и реалий: «Он... всю свою жизнь проповедовал нам, народам Кавказа, любить друг друга. Он был, как Иоанн Богослов, которого перед смертью ученики привели к народу и который, прослезившись, произнес: «Любите друг друга!». Да, в этом - весь Ованес Туманян. Вот, каков для него город у Куры: «Старый Тифлис – это своеобразный мир, где народы Кавказа были объединены всеми характерными признаками быта и манерами…». А вот – доказательства того, насколько справедлив такой взгляд.
Изданный на русском языке сборник грузинских символистов, возглавляемых Григолом Робакидзе, обсуждается в Товариществе армянских писателей. И, как свидетельствуют бывшие на том обсуждении, «несмотря на бурную дискуссию, атмосфера была очень дружелюбная, чувствовалось, что обе нации уважают друг друга, а разногласия являются теоретическими»... Литераторы-армяне во главе с Туманяном на вечере в Грузинском клубе обсуждают вместе с литературоведом Московского университета Азизом Шарифом и местными азербайджанскими писателями пьесу их соотечественника Наджеф-бека Везирова… Впрочем, какой единой семьей жили тогдашние литераторы, станет еще более ясным, если мы просмотрим хотя бы часть перечня того, в чем участвовали Ованес Туманян и его соратники. Открытие памятника Илье Чавчавадзе, 60-летний юбилей Владимира Короленко, 85-летие смерти Александра Грибоедова, похороны Акакия Церетели, создание литературного кафе «Химериони», Праздник грузинской национальной поэзии… Как сказали бы сегодня, полный интернационализм. Причем, вполне естественный, без всякой показухи. И, конечно, особая страница – отношение Туманяна к русской литературе и к своим современникам, ставшим частью ее.
Он признает, что эта литература влияла на него не каким-нибудь конкретным произведением – он «чувствовал ее в душе, в литературных вкусах, в мировоззрении». Он делится: «Я нашел, что произведения русских поэтов знакомы мне еще с детства и так полюбились, что, несомненно, должны были оказать на меня влияние». И в его переводах Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Кольцова, Надсона, Блока, наиболее полно раскрывающих армянскому читателю мир русской поэзии, - не только высокое мастерство, но и удивительное понимание всех тонкостей первоисточника. Символично, что именно в Москве, в 1890-м, увидел свет первый сборник его стихов. А сам он всю жизнь пишет статьи о русской литературе, внимательно следит за всеми ее течениями, организует в Тифлисе массу посвященных ей вечеров. Мы с благодарностью должны вспомнить традицию, которую он ввел в своей семье - дети вели дневники, ни одно поступавшее в дом письмо не выбрасывалось. Так и появился семейный архив, сохранивший для нас свидетельства теснейшей связи Туманяна с Россией. Мы видим в нем и газеты, без которых поэт не мог жить - «Русская мысль», «Вестник Европы», «Русское богатство», и обширнейшую переписку с собратьями по перу. Но главным, конечно же, было личное общение.
Валерия Брюсова мы уже видели сидящим на ступеньках туманяновского дома, в котором он был частым гостем. Тогда, в 1916 году, он приехал в грузинскую столицу из российской, чтобы читать лекции об армянской поэзии, вызвавшие настоящий ажиотаж у многонационального населения города. Свое восхищение тифлисским другом Брюсов, оставивший огромное количество переводов из армянской поэзии, высказывает множество раз, при каждом удобном случае. Дружбу с ним Туманян сохраняет до последних дней жизни, а после смерти Ованеса Тадевосовича ее продолжили его дочь и жена Валерия Яковлевича. Свидетельство тому – их переписка по вопросам поэзии вообще и переводов в частности, сохранившаяся в том самом семейном архиве. А еще не только на Туманяна, но и на всех его близких особое впечатление производит Константин Бальмонт, приезжавший в Грузию работать над «Витязем в барсовой шкуре» - первым из пяти полных стихотворных переводов поэмы Шота Руставели. В 1893-м он становится и первым переводчиком на русский язык поэмы Туманяна «Ахтамар». Тогда-то они знакомятся, и позже в Сололаки с радостью принимают колоритного, эмоционального, рыжеволосого гостя. А сам Бальмонт пишет такой экспромт:
Тебе, Ованес Туманян,
Напевный дар от Бога дан,
И ты не только средь армян
Лучистой славой осиян,
Но свой нарядный талисман
Забросил в дали русских стран,
И не введя себя в изъян,
Не потеряв восточный сан,
Ты стал средь нас на родной Иван...
Не только «родным Иваном», но и мудрым наставником Туманян становится для Сергея Городецкого, который на несколько лет превращается в поистине своего человека в доме на Вознесенской. Совсем еще молодой военный корреспондент газеты «Русское слово» приезжает в 1916-м в Тифлис. И встреча с Ованесом многое определяет в его жизни – он получает совет отправиться в Армению, чтобы увидеть последствия резни и спасать детей. Причем, не только армянских, но и курдских. Именно эта длительная поездка и рождает в Городецком настоящего поэта. Он видит и красоты горной страны, и ужасы сожженных городов и сел. Созданный там цикл стихотворений «Ангел Армении» издается в 1918 году в Тифлисе и посвящается, конечно же, Туманяну. Вернувшись в столицу Грузии, Сергей заведует отделом литературы и искусства в газете «Кавказское слово», участвует в литературных вечерах, делает обзоры выставок грузинских и армянских художников и много времени проводит у Туманяна. Без экспромта, не обходится и он:
Не знаю, кто придумал эсперанто,
Чтоб языки связать в один венец.
Но знаю я другого: Туманян-то -
Он эсперанто изобрел сердец!
Именно благодаря этому уникальному эсперанто, творчество Туманяна воспринимали и русские поэты, никогда не видевшие его. Стихи «достопримечательности Тифлиса», как называли Ованеса горожане, стали достопримечательностью переводческих работ Самуила Маршака, Корнея Чуковского, Николая Тихонова, Беллы Ахмадулиной, Наума Гребнева… Разное время, разные поколения, а язык – общий. Прочтем, что пишет Маршак дочери Туманяна – Ашхен: «…Работа над переводами была для меня истинной радостью. В каждой строчке я чувствовал ясную, добрую, по-детски чистую душу великого армянского поэта. Как живому, я шлю ему свой низкий, почтительный поклон».
Как верно расслышал Самуил Яковлевич эсперанто сердец! Но, ведь, детскость души проявляется не только в поэзии. Мы убедимся в этом, услышав, как друзья семьи то и дело повторяют жене поэта Ольге: «У тебя не десять детей, а одиннадцать, и самый трудный ребенок — Ованес». Да и сама она рассказывала, что муж напоминал ей большого ребенка. Чтобы убедиться в этом, хватит одного примера. На зиму в кладовке развешиваются чурчхелы, и Ольга замечает: нити, на которые нанизана эта вкуснятина, постепенно укорачиваются. Естественно, она решает, что дети втихую лакомятся, подрезая кончики чурчхел, но на «месте преступления» застает Ованеса… В общем, она и впрямь ухаживает за мужем, как за ребенком. А он, при этом, выглядит этаким милым дедушкой с седой бородкой - тифлисские поэты называли его патриархом, когда ему еще не было и пятидесяти. Но, как обманчива бывает внешность у личностей такого масштаба…
«Он оседлал лошадь и двинулся к вражеским позициям. Мы просили его вернуться и спрятаться в ущелье. Но он был спокоен и неумолим. Он посмотрел вдаль на холмы, крикнул нам: Не стрелять! Не выходить из ущелья! Азербайджанцы шли ему навстречу… И когда недавние враги подошли друг к другу и пожали руки, старик азербайджанец сказал: Пусть дорога, по которой он шел, покроется цветами, ярко красными, алыми цветами…». Это - рассказ армянского солдата о том, как тихий человек с добрейшей внешностью в 1907 году предотвратил кровопролитие в Лори. А сам Ованес признается: «И сегодня я не столько тем доволен, что сделал что-то в литературе, сколько доволен, что сумел заставить поднявшиеся друг против друга народы вложить сабли в ножны и сумел спасти великое множество ни в чем не повинных людей от варварской резни». В его стихах эта мысль более сконцентрирована:
Пускаться в бегство? Тщетный труд, —
Я связан тысячами пут:
Со всеми вместе я живу,
За всех душой страдаю тут.
Именно поэтому он – в гуще событий и во время Первой мировой войны, дважды отправляется на Кавказский фронт – обустраивать тысячи беженцев… А потом, победителем не только на литературном, но и на бранном поле, возвращается в свой уютный кабинет на Вознесенской, где висит написанное им объявление: «Не курить и книг не бросать!», а на полках стоят 8 тысяч томов личной библиотеки. Потом они составили городскую библиотеку имени Туманяна, а несколько лет назад… разошлись по другим книгохранилищам города. Они разделили печальную судьбу дома №18, который стал предметом имущественного спора, о деталях которого говорить на этих страницах не хочется. Достаточно сказать, что правнучка писателя, которой остались несколько комнат, вместе с общественностью долго боролась за то, чтобы этот дом не достался людям, которые способны уничтожить все следы «достопримечательности Тифлиса». Слухов и версий на эту тему - выше протекающей крыши исторического дома. Достоверно известно лишь одно: кому бы он ни достался, библиотеки Туманяна в нем уже не будет. Но, чтобы еще ни произошло, и для поэтов – грузинских, армянских, русских, и для тбилисцев, которым сейчас, зачастую, не до поэзии, это здание навсегда останется Домом Туманяна. Домом, в котором Ованес посвятил Николозу Бараташвили строки, которые с равной силой звучат и о нем самом:
Утешься, Грузия! В заветный этот миг
Что омрачило так твой мужественный лик?
То, что безмолвный прах увидела ты вновь
Певца, снискавшего в душе твоей любовь?
И еще вспомним, что Брюсов сделал из встреч с Туманяном такой вывод: «В Тифлисе нет ни одного человека, который бы не любил его как человека и замечательного писателя». Это – не легенда. Так было на самом деле. |
|
«ЗАВЛЕКАЮТ В СОЛОЛАКИ СТЕРТЫЕ ПОРОГИ...» (ЕСЕНИН В ТБИЛИСИ) |
|

Ох, уж, эта бесконечная череда и путаница крутых переулков и улочек у подножья Сололакского хребта! Куда только она не выведет... На этот раз – к знаменитому дому №15 на Коджорской. И, наверное, это неслучайно – именно сюда тбилисцы приводят своих самых дорогих гостей, чтобы с придыханием благоговения сообщить: «Здесь жил Есенин!» Ну, а нам, бывшим ученикам целых трех бывших русских школ, находившихся неподалеку (45-й, 43-й и 66-й), мемориальная доска над этим порогом знакома с детства – мимо нее мы вдохновенно таскали с крутизны металлолом. А потом с тем же вдохновением устраивали в школах есенинские вечера, спорили о загадках жизни и смерти поэта. Вот и теперь, чтобы перелистать страницы воспоминаний. остановимся у колоритного двухэтажного дома, грозящего вот-вот развалиться. На этих страницах, несмотря на их количество (а может, именно благодаря этому), нестыковок и путаницы не меньше, чем в тифлисской топографии. Вообще же, Сергей Есенин может считаться одним из лидеров по неразгаданным тайнам биографии, и это при том, что вся его жизнь была вроде бы открыта, вся – на виду. Вот так и с тбилисским периодом. Сколько раз поэт приезжал в этот город? Сколько времени провел здесь? Споры не прекращаются.
Больше всего известно и написано про знаменитую «бесснежную тифлисскую зиму» Сергея Александровича, которую по плодотворности многие сравнивают с «болдинской осенью» Александра Сергеевича. Именно тогда, в 1924-25 годах Есенин и жил на Коджорской. Но ведь это был отнюдь не первый его приезд в грузинскую столицу. «Милый друг Тициан», как называл Есенин знаменитого «голубороговца» Тициана Табидзе, ставшего для него одним из олицетворений Грузии, напоминает, что Сергей приезжал в Тифлис еще в 1920-м, но... «Но мы с ним не встречались, и, если бы не воспоминания А. Мариенгофа, то о первом пребывании поэта в Тифлисе мы так и не знали бы совершенно». Ну, чем, казалось бы, не очередная тайна есенинской биографии? Впрочем, возможности приподнять над ней завесу у нас сегодня больше, чем у Тициана: спустя десятилетия уже можно разглядеть то, что ему было просто недоступно. Ведь уже позже исследователю есенинского творчества Владимиру Белоусову рассказал о той поре уникальный человек, доктор филологических наук, классик шахматной композиции Александр Гербстман. Но мы обращаемся к профессору Гербстману не за шахматной мудростью, а, как к верному другу Тбилиси, с которым его связывают и студенческие годы, и первые успехи за черно-белой доской, и последующие приезды к друзьям. Именно во время одного из таких приездов он и встретился с Есениным.
В том, что это была вторая половина 1920-го, Александр Иосифович уверен – он ориентируется на даты различных событий в своей личной жизни. Так вот, в его гостиничном номере неожиданно появляется друг детства Марк Цейтлин, сообщающий что он комендант поезда, прибывшего из Советской России в Грузинскую Демократическую Республику. И что он привез «гордость и надежду советской поэзии - Сережу Есенина», на встречу с которым приглашает. Так каким же ветром занесло поэта на этот явно не «литературный» поезд? А все дело в том, что на пару лет раньше он познакомился с двумя друзьями – Анатолием Мариенгофом и Георгием Колобовым. Первый был поэтом, второй – чиновником Высшего совета перевозок при Совете Труда и Обороны РСФСР. Что, впрочем, не помешало ему писать стихи, вместе с имажинистами эпатировать общественность, участвовать в создании Устава «Ассоциации вольнодумцев в Москве» и даже быть хранителем печати этой организации. Летом 1920 года Колобов – уже «шишка» во Всероссийском Совете Народного Хозяйства и ему приходится часто ездить по стране. Вот он и приглашает в свой вагон друзей-литераторов, а те проводят творческие встречи в городах на маршрутах его служебных командировок. Так через Ростов-на-Дону, Таганрог, Кисловодск и Пятигорск москвичи добираются до Баку. «Отдельный белый вагон... У нас мягкое купе. Во всем вагоне четыре человека и проводник», - вспоминает Мариенгоф.
Из Баку в Тифлис – поездка особенная. Грузинское правительство национализировало много паровозов, а вагонов не хватало. Поэтому оно хотело продать или сдать в аренду локомотивы, чтобы получить вагоны. И спецвагон с Колобовым, Есениным и Мариенгофом прибывает в столицу Грузии для переговоров: Москва заинтересована в покупке. Заодно решен вопрос пассажирского сообщения между Тифлисом и Баку – 5 сентября оно восстановлено. Есть свидетельства, что и Есенин принимал участие в этом отнюдь не поэтическом деле – как официальный представитель Колобова. Как бы то ни было, с начала сентября он – в Тифлисе. Именно в те дни Гербстман и получает приглашение на встречу с поэтом. Она проходит в квартире известного тифлисского юриста Захара Рохлина. В первые минуты гость не верит, что перед ним Есенин – тот выглядел «совсем по-мальчишески, был навеселе» и совсем не соответствовал представлениям солидного человека о служителе высоких муз. Но когда, во втором часу ночи, этого русоволосого парня уговаривают прочесть стихи, сомнения гостя рассеиваются, он потрясен: «Читал Есенин изумительно: очень эмоционально, всем телом жестикулируя...» Но время и тогда такое, что без политики не обходятся даже поэтические чтения. Тем более, что в семье юриста – раскол: сын Костя ушел в большевики. В ту ночь он появляется, чтобы послушать знаменитого поэта, а того после стихов тянет на политику: «Мы – советские…» Хозяева предлагают Сергею выйти на веранду, но там в нем просыпается то самое хулиганство, которое хорошо знала Москва. Он перегибается через решетку и кричит какому-то прохожему на всю спящую улицу: «Да здравствует Советская Россия!» Естественно, вскоре в дверях появляется милиция, но все заканчивается благополучно. Костю удается спрятать, его папа, достав бумажник, откупается (милиции всех времен и всех стран мало чем отличаются друг от друга), гостей укладывают спать... Вот такое, пожалуй, единственное свидетельство о поэтическом вечере в первый есенинский приезд. А еще сохранилась фотография начала сентября 1920-го – Есенин с Колобовым в Тифлисе. Ее уникальность особо отмечал спустя 47 лет поэт Георгий Леонидзе.
Однако от бдительных «органов» Есенину отвертеться не удается. Правда, уже от российских, по возвращении в Москву. Там чекисты арестовывают его за связь с людьми, обвиненными в «причастности к контрреволюционной организации». За поэта поручаются крупные должностные лица, его отпускают, а из его показаний мы выпишем на нашу страницу такие строки: «Я состоял секретарем тов. Колобова, уполномоченного НКПС. 8 июля мы выехали с ним на Кавказ. Были тоже в Тифлисе, по поводу возвращения вагонов и паровозов, оставшихся в Грузии». Стремление в Грузию у Сергея Александровича не пропадает: в нем живет не только интерес к этой стране, но и надежда добраться из нее в Персию, которой он тогда, прямо скажем, грезил. Так что, не проходит и полутора лет, как имя Есенина вновь значится в списках пассажиров все того же колобовского вагона, на этот раз отправляющегося прямо в Тифлис. Но тогда, в феврале 1922-го, поэт опаздывает к отправлению поезда, догоняет его лишь в Ростове-на-Дону, а там... ссорится с Колобовым прямо на вокзале и возвращается в Москву. Так его второе появление в Грузии откладывается еще на полтора года.
Ничего это Тициан знать не мог. У него были лишь несколько строк из воспоминаний Мариенгофа. Но уж в следующий приезд Есенина в Грузию «голубороговец» был в центре всех событий, вместе с другими грузинскими поэтами восторженно принимая русского собрата. Тот период жизни Есенина так и вошел в историю, как «тифлисский», хотя с начала сентября 1924 года по конец февраля 1925-го Сергей покидал грузинскую столицу, отлучаясь в Баку и Батуми. Но каждый раз он возвращался в дом на Коджорской, куда переселился из гостиницы «Ориант», где остановился сразу по приезде в город. Город, в котором обрел таких друзей, как поэты Паоло Яшвили, Тициан Табидзе, Георгий Леонидзе, Нико Мицишвили, Сандро Шаншиашвили, Симон Чиковани, Валериан Гаприндашвили... Они сами великолепно, «крупным планом», описали те дни. А сколько страниц исписали по этому поводу литературоведы и биографы... Так что, давайте не будем пересказывать тысячи страниц, как и в тысячный раз цитировать «Поэтам Грузии». Мы просто присмотримся к калейдоскопу некоторых ярких иллюстраций, которые воссоздадут атмосферу того приезда.
...В комнате, из которой видна Кура, живут два друга – Симон и Коля, которым еще только предстоит стать знаменитыми - поэт Чиковани и кинорежиссер Шенгелая. Сблизившийся с ними ленинградский художник Константин Соколов ночью неожиданно приводит к ним Есенина, вместе с которым приехал из Баку. Смущенные такой встречей хозяева читают гостю его стихи, он удивлен и очень обрадован, начинает читать сам. Из мебели в комнате – лишь кровать. Сергей садится на подоконник и, выглянув в окно, отмечает: «Зал великолепен, но, сожалению, публики маловато!»... Через день или два после этого в кафе руставелевского театра Есенин извиняется перед новыми друзьями за ночное вторжение и откровенничает: «Вы думаете, что я был настоящим имажинистом? Я ничего общего не имел с их поэтикой, но дружил с некоторыми из них, и они меня втянули в свою группу. И у Хлебникова поэтика иная, но кое в чем мы ему уступили, и он присоединился к нам. Вообще, литературные группировки отжили свой век»... Другое тифлисское кафе – знаменитый приют творческого люда «Химериони». Уединенно ужинающий Есенин видит, как разбуянился молодой поэт за соседним столиком, и в драку уже ввязываются даже официанты и повара. Он тут же оказывается в центре событий, разнимает дерущихся, а потом приглашает молодежь за свой стол: «Я слышал, у вас был недавно вечер, и публики было очень мало, вы бы скандал устроили до вечера – это привлекло бы народ. Такой скандал был бы оправдан, борьба за поэзию – дело благородное, и никто не стал бы вас винить, сегодняшняя же ссора бесцельна и бессмысленна»...
...В тифлисском Доме союзов – творческий вечер Есенина, звучат и критические замечания. Поэт начинает возражать оппонентам, но речь ему не дается. И он просто восклицает: «Товарищи, не бейте меня, я еще напишу стихи получше». Потом читает что-то новое, понравившееся всем, и быстро смешивается с публикой... Еще одно выступление Есенина – в зале Совпрофа. В тот же день хоронят «грузинского соловья» Вано Сараджишвили, это – настоящий национальный траур, церемония потрясает Есенина своей грандиозностью. И он уверен, что его вечер сорвется. Но в зале яблоку негде упасть, сам поэт в ударе и Георгий Леонидзе отмечает: «Траурный полдень и поэтический вечер этого дня надолго объединили в сознании тбилисцев два редких самородных таланта – Сергея Есенина и Вано Сараджишвили»»... А вот – еще один момент, изумивший Леонидзе – друг Сергей вызывает его на... дуэль. Ни больше ни меньше! Причем, в официальной форме, попросив назвать секундантов, назначив время и место поединка – в 6 утра на Коджорском шоссе. А потом объясняет это «очень просто»: «Не волнуйся, будем стреляться холостыми, а на другой день газеты напечатают, что дрались Есенин и Леонидзе, понимаешь? Неужели это тебя не соблазняет?» Сейчас это назвали бы пиаром или промоушеном... А в легендарном магазине лагидзевских фруктовых вод Есенин пристрастился к кизиловому соку, и ходивший с ним туда Леонидзе считает, что по какой-то, возможно, несознательной ассоциации, именно этому лагидзевскому изделию обязан своим происхождением один образ из стихотворения «На Кавказе»:
Прости, Кавказ, что я о них
Тебе промолвил ненароком,
Ты научи мой русский стих
Кизиловым струиться соком.
Увы, возвращаясь ненадолго в наше время, отметим, что нынешним российским поэтам этот «кизиловый источник» вдохновения не светит. Колоритнейший магазин «Воды Лагидзе» на проспекте Руставели уничтожен, и в стекляшках под тем же названием, сменивших его в других местах города, кизиловым соком и не пахнет...
А эти иллюстрации принадлежат журналисту газеты «Заря Востока» Николаю Вержбицкому – тому самому, что предоставил Есенину одну из своих двух комнат на Коджорской улице. Однажды Сергей просит увести его из шумного духана, и они приходят в невзрачный домик на берегу Куры, к человеку, ставшему символом Тифлиса – Иетиму Гурджи. Обстановка полутемного помещения, мягко говоря небогата: живущий здесь старик – подлинно народный поэт. А стена расписана портретом Руставели. Хозяин, практически не знающий русского языка, поет гостю свои песни, которые любит весь город – о том, что счастье в дружбе и веселье, а не роскоши и богатстве. Узнав, что перед ним известный русский поэт, старик наливает всем из большого глиняного кувшина: «Встреча двух поэтов – это встреча стали с кремнем. Она рождает свет и тепло!.. Я плохо знаю русский язык, но язык поэзии один повсюду. Прошу моего брата прочесть что-нибудь!» Есенин долго молчит, а потом запевает «Есть одна хорошая песня у соловушки». Иетим слушает, опустив голову, а потом ногой распахивает дверь в ночной город: «Не надо печали! Посмотрите, как хорошо на свете!»... Есенин – в колонии для беспризорных. Он рассказывает о себе, привирая, правда, что сам был таким же, голодал, но потом выучился грамоте и неплохо зарабатывает стихами. Причем, говорит на близком пацанам языке – с жаргонными словечками, босяцкими жестами, и это выглядит совершенно естественно. Когда он раздает дорогие папиросы из красивой пачки, его спрашивают: «А ты какие стихи пишешь? Про любовь?» - «И про любовь, - отвечает он, - и про геройские дела... Разные». На прощанье мальчишки поют ему «Позабыт, позаброшен...» А через три дня в «Заре Востока» появляются такие строки:
...Я только им пою,
Ночующим в котлах,
Пою для них,
Кто спит порой в сортире,
О, пусть они
Хотя б прочтут в стихах,
Что есть за них
Обиженные в мире.
Так родилась есенинская «Русь бесприютная». Вообще же, в «Заре Востока» впервые увидели свет десятка два его стихотворений и статей. Он становится своим человеком в редакции, которая кормит его гонорарами, авансами и кредитами, собирает его тифлисских друзей. Не случайно он посвящает ей экспромт:
Ирония! Вези меня! Вези!
Рязанским мужиком прищуривая око,
Куда ни заверни – все сходятся стези
В редакции «Зари Востока».
Еще он любил бывать в наборном цехе, сошелся там со всеми, старого метранпажа Хатисова называл «папашей» и говорил, что запах типографской краски напоминает некие очень приятные события юности, когда он работал в московской типографии. А здесь наборщики первыми набрали его книгу «Страна советская», выпущенную в 1925 году тифлисским издательством «Советский Кавказ». На ее обложке – монограмма оформителя: КZ, Кирилл Зданевич. Когда Есенина не стало, в траурном объявлении «Зари Востока» он был назван «сотрудником и товарищем».
Желанным гостем этой редакции был и другой поэт – Владимир Маяковский. Именно с его пребыванием в Тифлисе связана еще одна из тех нестыковок, которыми пестрит есенинская биография. С легкой руки все того же Вержбицкого, в литературоведение проникла история о том, как два поэта, которых связывали весьма непростые отношения, повстречались в Тифлисе. Причем, Есенин первым отправился к своему литературному сопернику и был встречен крепким рукопожатием, «с большим и вполне искренним дружелюбием». Они обсуждали свои заграничные поездки, и Маяковский разоткровенничался до того, что пожаловался на испорченный душ. В ответ он получил приглашение отправиться в знаменитые серные бани. «Ну, как же это я – грузин, а вдруг забыл такую самоочевидную вещь?! - закричал он. - Конечно, сейчас же, сейчас же на фаэтон и – к Орбелиани!» Что и было сделано к обоюдному удовольствию. Хотя Есенин и съязвил Маковскому. Сперва вспомнил стихотворение «Юбилейное», в котором Владимир Владимирович сравнил его с «коровою в перчатках лаечных» и обозвал «балалаечником». Потом прочитал свое, совсем свежее:
Мне мил стихов российский жар.
Есть Маяковский, есть и кроме,
Но он, их главный штабс-маляр,
Поет о пробках в Моссельпроме.
И Маяковский, никому не дававший спуску в подобных ситуациях, мило улыбнувшись, признал: «Квиты!» Однако и это еще не все. Вержбицкий утверждает, что Есенин продолжил: «...Что поделаешь, я действительно только на букву Е. Судьба! Никуда не денешься из алфавита! Зато вам, Маяковский, удивительно посчастливилось – всего две буквы отделяют вас от Пушкина...» Выдержал паузу и строго добавил, предупреждающе помахав пальцем: «Только две буквы! Но зато какие – НО!» После этого Маяковский... вскочил и расцеловал Есенина. А еще они вместе путешествовали по городу, беседовали о художнике Нико Пиросмани... Ничего не скажешь, красивые истории. Жаль, только, что... их никогда не было. Это подтверждают Симон Чиковани, жена Тициана, Нина Табидзе, Николай Тихонов, бывший в то время в Тифлисе, да и многие другие современники. Маяковский уехал 6 сентября, и провожали его около десятка человек. Есенин же приехал через три дня после этого. Да и беседовать о Пиросмани они никак не могли – с картинами гениального художника-самоучки Маяковский познакомился лишь спустя два года, в следующий приезд, у Кирилла Зданевича... Как известно человеческая память способна вытворять злые шутки, так что, будем считать: за четыре десятилетия она просто подвела гостеприимного журналиста. Но есть еще и вовсе таинственная история, связывающая имя Есенина с Тбилиси.
Весна 1944-го. Петроградский друг Есенина, соратник по имажинизму Рюрик Ивнев живет в Тбилиси. И запыхавшаяся курьерша очень просит прийти его к Симону Чиковани, за эти годы из юного обитателя пустой комнаты превратившегося в главу Союза писателей Грузии. В его кабинете на шею Рюрику бросается молодой человек, слегка похожий на Есенина. Голосом, тембр которого удивительно напоминает есенинский, он представляется сыном поэта, приехавшим из Средней Азии. И показывает паспорт на имя Василия Сергеевича Есенина. «А когда Василий начал наизусть читать с большим мастерством и тактом не только лирические стихи отца, но и его поэмы, не запнувшись ни разу, все поняли, что в Тбилиси приехал не просто сын поэта, но и прекрасный чтец его стихов», - вспоминает Ивнев. Конечно же, вокруг 22-летнего гостя – радостная суета, особенно старается будущий директор Музея имени Андрея Рублева в Москве Давид Арсенишвили. Он поселяет Василия у себя, берет на полное иждивение. И рождается идея большого вечера, на котором сын прочтет стихи отца, а Ивнев поделится воспоминаниями. Успех превосходит все ожидания: Василий выступает блестяще, в Сталинири (Цхинвали) и Гори – по два раза в день, а в Батуми – даже трижды. В Тбилиси он часто приходит к Ивневу на улицу Энгельса №6 (ныне Ладо Асатиани), которая, что примечательно – соседствует с той самой Коджорской... Уезжает он неожиданно, в Краснодар, откуда присылает пару открыток, а потом исчезает для тбилисцев навсегда.
Ивнев, которого в этих открытках поразил бисерный почерк, очень напоминавший есенинский, до конца жизни был уверен, что Василий – сын Сергея. Похоже, что мало сомневалась в этом и великая Фаина Раневская, которой прямо в купе ехавшего по Закавказью поезда Василий устроил импровизированный вечер поэзии. Да и поэт Алексей Марков вспоминал, как в приемной «Зари Востока» встретил есенинского сына. Правда, от очень многих мы сможем услышать, что это был самозванец, в конце концов оказавшийся за решеткой. Но для нас в этой истории важно одно: был ли то коллега «детей лейтенанта Шмидта» или сын поэта, принимая его, жители Грузии продемонстрировали, какие чувства вызывает у них имя Сергея Есенина.
Впрочем, это ясно и из просмотренных нами иллюстраций, так что вернемся в 1925 год, чтобы отправиться с Коджорской улицы к вокзалу, с которого Сергей уезжает, полный планов и надежд, связанных с Грузией. Он сообщит московским друзьям, что ждет в гости грузинских поэтов, чтобы отвезти их в свое родное Константиново и угостить ухой из рыбы, которую сам наловит в Оке. Он хотел начать переводы из грузинской поэзии, позади были переговоры с «Зарей Востока» о редактировании литературного приложения к ней, впереди – создание особого цикла стихов о Грузии. Он писал Тициану, что тифлисская зима навсегда останется для него лучшим воспоминанием, и в следующую зиму он хочет опять «засесть в Тифлисе». Он обещал: «Как только выпью накопившийся для меня воздух в Москве и Питере – тут же качу обратно к вам, увидеть и обнять вас».
И все казалось таким вполне реальным, близким, дарящим счастье еще на многие-многие годы. И никому не дано было тогда знать, что в Тифлисе поэт встретил последний год своей жизни.
Владимир ГОЛОВИН |
|
|
«ЗАВЛЕКАЮТ В СОЛОЛАКИ СТЕРТЫЕ ПОРОГИ...» (МАНДЕЛЬШТАМ В ТБИЛИСИ) |
|

«История – это опытное поле для борьбы добра и зла»… Почему слова, которые Осип Мандельштам часто повторял своей жене, вспоминаются именно на этой улице, именно у этого дома? Наверное, потому, что они имеют прямое отношение и к тому, чье имя носит улица, и к тому, кто построил этот дом, и к тем, кто обитал или бывал в нем.
Улица названа в память об Иванэ Мачабели – замечательном литераторе и общественном деятеле, чьи переводы Шекспира и по сей день используются в репертуаре знаменитого Руставелевского театра. А его либретто к опере «Витязь в тигровой шкуре», вообще, было создано по личной просьбе русского композитора Михаила Ипполитова-Иванова. В далеком 1898-м этот человек, сделавший немало добра для своей страны, ранним утром вышел из дома на чей-то зов и до сих пор считается без вести пропавшим. Особняк же, под номером №13 по улице Мачабели, где мы остановились, когда-то был построен Давидом Сараджишвили, о котором до сих пор ходят легенды. Он вошел в историю не только как создатель грузинского коньяка, поставщик двора Его Императорского Величества, но и как благотворитель-меценат широчайшей души. Тысячи простых людей из разных районов Грузии добирались в 1911 году до Тифлиса на его похороны, чтобы попрощаться с человеком, оставившим о себе столь добрую славу. Однако, 27 лет спустя, зло сказало свое слово: останки филантропа и его жены «строители нового мира» выселили на городское кладбище из Дидубийского пантеона, который должен был стать «идеологически выдержанным». И «фабрикантам» там было не место. Но времена снова изменились. И, в 1995-м, в очередной раз доказав, что у них хорошая память, тбилисцы перезахоронили легендарного земляка в самом центре своего города – во дворе Кашуэтской церкви. Которая, кстати, построена, в основном, на деньги Сараджишвили. Так подтвердились слова Акакия Церетели о том, что «Давид заслужил любовь своего народа своей же, щедро отданной любовью».
Ну, а сам Акакий, вместе с другими писателями, общественными деятелями, художниками часто бывал в доме Давида Захарьевича – любимом месте счастливых встреч грузинской интеллигенции. Да и кто только не почитал за честь оказаться в гостях у достойнейшего представителя этой интеллигенции, доктора химических и философских наук. Да что там – в гостях! Приглядимся к одной из первых реклам коньяка Сараджишвили и убедимся: известному фотографу Александру Роинашвили позирует не какая-нибудь модистка, а красавица-княжна Бабо (Варвара) Багратион-Давиташвили. Между прочим, младшая сестренка жены… все того же Иванэ Мачабели. И кто мог предположить тогда, что именно его имя, через десятилетия, будет носить Сергиевская улица, на которой стоит дом Сараджишвили? Но со сколькими, приходившими сюда, судьба поступила не менее жестоко, чем с Мачабели или Ильей Чавчавадзе! Впрочем, борьба добра и зла не обошла и сам этот уникальный дом.
Сегодня его уникальность в том, что, в отличие от остальных сололакских домов, мимо которых мы проходили, он… в отличном состоянии. Он отремонтирован! А в начале прошлого века, когда респектабельным видом особняков в этом районе удивлять было некого, он выделялся как один первых образцов модернизма в зодчестве Тифлиса. Современники восхищались его волнистыми фронтонами, мансардой, консолями, орнаментом из раковин и растений. А помимо роскошных спален и кабинетов, приемных и гостиных, был еще и сад с источником, к которому вели ступени с широкой каменной террасы перед парадным залом. Не случайно, именно здесь грузинская общественность в 1914-м принимала Николая II во время его единственного кавказского «турне». Но это – к слову. Главное, что творение немецкого архитектора Карла Цаара помнит немало счастливых часов, пережитых замечательными людьми, в том числе, и гостями из России. Увы, как и в жизнь людей, эпоха внесла в его жизнь свои жесткие коррективы.
В газете «Русское слово» за июль 1911 года – информация под заголовком «Щедрый дар». Читаем: «После панихиды вдова Сараджева заявила городскому голове, что, по воле покойного, она приносит в дар городу роскошный особняк на Сергиевской улице со всей обстановкой… В доме Сараджева собрано много картин кавказских художников. Ценность дара исчисляется в полмиллиона рублей». А ведь, в самом деле, Сараджишвили завещал свой дом грузинским писателям, причем, в вечное пользование. Сегодня председатель Союза писателей Грузии Маквала Гонашвили утверждает: вдова, все-таки, выставила дом на продажу. Но главное не в деталях, а в том, что добро, несмотря ни на что, восторжествовало: другой меценат – Акакий Хоштария выкупает особняк и передает права на него писателям, назначив комендантом не кого-нибудь, а Паоло Яшвили. Однако владеть таким зданием – еще не значит быть счастливым. Мог ли предположить человеколюб Сараджишвили, что в завещанных им помещениях в недоброй памяти 1930-х будут строчить доносы на соратников по перу, а собрания в Союзе писателей превратятся в судилища, решающие судьбы «идеологических противников»? Или, что уже в XXI веке литераторы несколько лет будут бороться с властями, решившими отобрать у них здание? Да, в итоге, добро победило, но сведет ли это на нет все то зло, которое, как говорится, имело место быть?
Ну, а мы, подойдем к порогу красивого дома на Мачабели, чтобы повидать автора слов, с которых начата эта страница. Уж, в его-то судьбе зла хватало и, в конце концов, оно отняло у него жизнь. Но Тбилиси может гордиться тем, что особняк на одной из его улиц дарил великому поэту России только добро. Тем более что первое появление Мандельштама в Грузии, а точнее в Батуми, было встречено отнюдь не гостеприимно. А ведь эта страна вошла в его жизнь, можно сказать, заочно – встречами в Петербурге с грузинскими красавицами-княжнами, которым он посвящал стихи. Первая – Тинатин Джорджадзе, жена придворного церемониймейстера Сергея Танеева. Вторая – «Соломинка», как назвал ее влюбленный Мандельштам, Саломея Андроникашвили, покорившая столько сердец! Эти женщины оставили в душе поэта такой след, что на крымском берегу в Коктебеле он грезил другим берегом Черного моря – грузинским, повторяя: «Золотое руно, где же ты, золотое руно?» Но между мечтами и реальностью, как известно, дистанция огромного размера. Мандельштам с братом ступают на землю золотого руна через четыре года после этих грез, в сентябре 1920-го, и сразу оказываются в… карантине Батумского особого отряда. В Осипе Эмильевиче заподозрили шпиона, причем, двойного – и врангелевцев, и большевиков. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы об этом не узнали отдыхавшие в Батуми поэты Тициан Табидзе и Нико Мицишвили. Они не только смогли вызволить узника (в то время у поэтов еще были такие возможности!), но еще и организовали его вечер в местном «Обществе деятелей искусств».
Тифлис же компенсировал гостю батумский прием на все сто процентов. Новые друзья «двойного шпиона» Тициан Табидзе и Паоло Яшвили проявили гостеприимство в таких масштабах, что, случайно встретив на Головинском проспекте растерявшихся в незнакомом городе Илью Эренбурга с женой, Мандельштам, ничтоже сумняшеся, объявил: «Сейчас мы пойдем к Тициану Табидзе, и он нас поведет в замечательный духан...» Потрясенный Эренбург потом вспоминал: «Каждый день мы обедали, более того, каждый вечер ужинали. У Паоло и Тициана денег не было, но они нас принимали с роскошью средневековых князей». Однако надо ли говорить, что одними духанами в Тифлисе того времени для поэтов дело ограничиться не может? Творческая жизнь бьет ключом, дополнительный напор которому придают, говоря нынешним языком, звезды литературы, живописи, музыки, приехавшие из неспокойной и голодной России. И Мандельштам вполне естественно входит в эту жизнь на обе недели своего пребывания. Вот он на сцене консерватории, где проходит его совместный с Эренбургом вечер. А вступительное слово о новой русской поэзии там произносит замечательный писатель Григол Робакидзе, впоследствии, как и Мандельштам, запрещенный советской властью, но, в отличие от него, успевший вовремя эмигрировать. Вот Мандельштам проводит занятия с актерами в «Театральной студии Ходотова». Вот спорит с Алексеем Крученых, Анной Антоновской, Сергеем Рафаловичем и другими на вечерах в тифлисском «Цехе поэтов», созданном Сергеем Городецким по образцу петербургского. Можно его встретить даже в журнале с интересным названием «Искусство и промышленность». Там, как свидетельствует Константин Паустовский, он предлагает написать исследование о вывесках Москвы, навеянное картинами Нико Пиросмани. А еще, конечно же, были нескончаемые прогулки по Тифлису, который своими улочками, балконами, храмами, базарами, погребками, шумным людом, казался городом из «Тысячи и одной ночи» …
Интересно, что, как Грузия встретила Мандельштама вооруженной охраной, так ею же и проводила его. Но уже под «крышей» весьма уважаемой дипломатической должности и не на обычном транспорте, а на… бронепоезде. Полномочное представительство РСФСР в Тифлисе дает статус дипкурьеров супругам Эренбург и братьям Мандельштам, а МИД Грузинской Демократической Республики снабжает «командированных в Москву» соответствующими пропусками. Что ж, без этого, наверное, нельзя было рассчитывать на быстрое возвращение домой в обход бумажной волокиты и весьма вероятных новых недоразумений на границе. «…Мы были первыми советскими поэтами, которые нашли в Тбилиси не только душевный отдых, но романтику, ощущение высоты, толику кислорода, - делится Эренбург и от имени Мандельштама. - Без Кавказа трудно себе представить русскую поэзию: там она отходила душой, там была ее стартовая площадка... А еще стоит посмотреть, как Осип Эмильевич получает в России продуктовую посылку от американской благотворительной организации «АРА», в голодные годы поддерживавшей деятелей культуры и ученых. По воспоминаниям Михаила Пришвина, он расписался в получении… на грузинском языке. Лучшей характеристики впечатлениям от Грузии и не придумаешь.
Но еще интересней увидеть, как сололакский дом принимает Мандельштама в 1921 году, во время его второго, самого длительного пребывания в Грузии. Появление здесь поэта с женой Надеждой поистине потрясает. Мало того, что они прибывают на полугрузовом автомобиле, которых в городе тогда было раз, два – и обчелся. За рулем машины, промчавшейся по центру Тифлиса, сидит…негр. Надежду Яковлевну сие тоже потрясло, пожалуй, даже не меньше событий, приведших к переезду в Сололаки. А события эти, в другом старинном районе – Вере, мягко говоря, неприятны. Мандельштамы жили у знакомого из Москвы, во дворике на углу Гунибской (ныне – Барнова) и Кирпичной (ей с переименованиями особенно повезло: сначала целиком – Белинского, а ныне – частью Човелидзе, а частью – Схиртладзе). Но это – так, для справки тем, кто захочет пройтись по памятным литературным местам. И все было у Мандельштамов по-доброму, пока не явилось зло в лице советской власти, которая в том году уже установилась в Грузии.
Весь квартал за несколько часов выселяется по какой-то, очень важной государственной надобности. Надежда Яковлевна признавалась, что в Киеве она уже видела, как за одну ночь чекисты обыскали целый город, «изымая излишки». Но тифлисское «массовое организационное действие» просто ошеломило ее. Правда, в кутузку никого не увозят – верийцам раздают уже приготовленные ордера на новое жилье, а Мандельштамы, когда приходит их очередь, могут назвать только «Дом искусств», как именовалось тогда здание Союза писателей. Вещи кидают в кузов машины (не будет же столь уважающая себя организация, как ЧК, развозить выселенных на арбах!). И шофер, которого, исходя из нынешней толерантности, вообще-то, следует именовать афрогрузином, подъезжает к бывшему особняку Сараджишвили. Ну, а там, как мы помним, комендантом Паоло Яшвили. К тому же, он и Тициан живут с семьями на втором этаже. И Надежда Яковлевна на всю жизнь запомнила, как он, «великолепным жестом приказал швейцару отвести нам комнату... и швейцар не посмел ослушаться – грузинские поэты никогда бы не позволили своему русскому собрату остаться без крова».
В общем, без всякого разрешения властей приезжая чета поселяется в одном из небольших кабинетов этого дома. Еще сохранившаяся со старых времен прислуга возмущена этим и периодически бегает жаловаться в народный комиссариат просвещения. И, заручившись очередным предписанием «не пущать», пытается выполнять его. Итог таких попыток описывает Надежда Мандельштам: «Тогда с верхнего этажа спускался Яшвили и, феодальным жестом отшвырнув слугу, пропускал нас в дом. Мы продержались там около месяца». И надо признать, что это – самое плодотворное время для Мандельштама в Тифлисе. Именно в «Доме искусств» родилось стихотворение, считающееся переломным в его творчестве – «Умывался ночью на дворе». Современники увидели в нем «новое мироощущение возмужавшего человека». Однако это произведение примечательно еще многим. Во-первых, оно навеяно гибелью близкого друга Николая Гумилева, о которой сообщил тифлисский одноклассник расстрелянного поэта, полномочный представитель РСФСР в Грузии Борис Легран. Во-вторых, оно основано не на сочиненном ради романтики «восточном колорите», а на реальном тифлисском быте – водопровод в роскошном здании не работает, и все умываются привозной водой, из огромной бочки во дворе. Ну, а самое главное, оно удивительно перекликается со стихотворением Анны Ахматовой «Страх», тоже посвященным смерти Гумилева. Судите сами, дорогие читатели. Вот строки Мандельштама:
Умывался ночью на дворе.
Твердь сияла грубыми звездами.
Звездный луч – как соль на топоре.
Стынет бочка с полными краями.
На замок закрыты ворота,
И земля по совести сурова.
Чище правды свежего холста
Вряд ли где отыщется основа.
Тает в бочке, словно соль, звезда,
И вода студеная чернее.
Чище смерть, солонее беда,
И земля правдивей и страшнее.
А вот – начало стихотворения Ахматовой:
Страх, во тьме перебирая вещи,
Лунный луч наводит на топор.
За стеною слышен стук зловещий –
Что там, крысы, призрак или вор?
В первых строфах поэтов, разделенных огромным расстоянием – один и тот же образ луча на топоре! У Ахматовой он родился в конце августа, а в печатном виде появился в октябрьском номере петроградского журнала «Записки мечтателей». У Мандельштама луч лег на топор осенью, напечатано же стихотворение в декабре, в тифлисской газете «Фигаро». Что это – фантастическое совпадение мыслей двух гениев или же Мандельштам как-то смог прочесть ахматовские строки и откликнуться на них? В те времена питерский журнал вряд ли мог попасть в Грузию за столь короткий срок после выхода в свет. Но вполне возможно, что «Страх» в списках дошел до обширных литературных кругов Тифлиса, в которых вовсю вращался Мандельштам. Противники же этой «приземленной» версии, которых немало среди литературоведов, спорящих до сих пор, приводят строки из письма Мандельштама Ахматовой: «Знайте, что я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми: с Николаем Степановичем (Гумилевым – В.Г.) и с Вами. Беседа с Колей не прерывалась и никогда не прервется»…
Однако посмотрим, чем еще занимается Мандельштам в этом особняке. Главное, пожалуй – переводы. Он открывает для себя Важа Пшавела и переводит его по подстрочникам Паоло и Тициана. Да и самого Табидзе перевел вместе с другими «голубороговцами» - Валерианом Гаприндашвили, Нико Мицишвили и Георгием Леонидзе – для первой русской антологии «Поэты Грузии», изданной в Тифлисе в конце 1921 года. Еще – переводы Иосифа Гришашвили, а с армянского – Акопа Кара-Дервиша. Но, при всем этом, на террасах «Дома искусств» Осип Эмильевич яростно спорит со своими друзьями, осуждая символизм. Он искренне недоумевает, почему «голубороговцы» живут образами, связанными с европейской литературой, призывая их обратиться к корням Грузии, где «старое искусство, мастерство ее зодчих, живописцев, поэтов, проникнуто утонченной любовностью и героической нежностью». Дело доходит даже до разборок на уровне «А кто ты такой, чтобы нас учить?» и клятв именем Андрея Белого «уничтожить всех антисимволистов». Ничего не поделаешь, поэты – народ, пылкий во всем… Но были, конечно же, у Мандельштама и не менее увлекательные занятия. Ведь за полгода жизни в Грузии он активно писал в местные газеты, выступал на различных диспутах и вечерах, преподавал в театральной студии и даже вступил в Союз русских писателей Грузии. Да, была тогда и такая писательская организация, мы можем прочесть расписку Мандельштама о получении денежного пособия от нее. Словом, гость уже настолько становится своим в литературном мире Грузии, что, открыв петроградский «Вестник культуры», увидим примечательную «утку»: «Поэт О. Мандельштам переехал в Тифлис».
На деле же, все иначе. «Комиссары, убедившись, что примитивно – ручным способом – выгнать нас нельзя из-за сопротивления Яшвили, дали нам ордер на какую-то гостиницу с разбитыми стеклами», - вспоминает Надежда Яковлевна. И вскоре, выпив вина с соседями-милиционерами (Тбилиси во все времена – Тбилиси!), Мандельштамы через Батуми уезжают из Грузии. Чтобы вернуться почти через 9 лет. Этот их приезд на Южный Кавказ в 1930-м посвящен, в основном Армении. Дожидаясь вызова туда, поэт с женой шесть недель проводят в Сухуми, на правительственной даче. И вновь, именно в добрейшей к ним атмосфере Грузии, их настигает отголосок зла, весть о гибели еще одного большого русского поэта, на этот раз Владимира Маяковского. Вообще, в Армении чета пробыла с начала лета до осени, Тифлис же предшествует этой поездке, а потом венчает ее. Нельзя точно сказать, бывал ли снова Мандельштам в столь памятном ему сололакском особняке. Скорее всего – да, ведь он вновь встречался с местными писателями, вел переговоры о работе в архивах. Гораздо важнее другое: в тот его приезд Тифлис делает огромное дело не только для самого поэта, но и для всей мировой литературы – впервые после 5-летнего перерыва Мандельштам снова начинает писать стихи. Это – не только цикл об Армении, но и совсем небольшое стихотворение:
Куда как страшно нам с тобой,
Товарищ большеротый мой!
Ох, как крошится наш табак,
Щелкунчик, дружок, дурак!
А мог бы жизнь просвистать скворцом,
Заесть ореховым пирогом...
Да, видно, нельзя никак.
Литературоведы признали его шедевром и посвящают сотни страниц расшифровке образов. Установлено, что оно обращено к жене, которую Мандельштам во многих письмах называл «большеротиком» и «птенцом». Вспоминают, что его самого под именем Щелкунчик зашифровал в «Траве забвения» Валентин Катаев. Но для читателей этой страницы, пожалуй, более ценна другая конкретика. Словом «товарищ» на правительственной даче в Сухуми супруги «ответработников» обращались к своим мужьям. Жена Мандельштама смеялась над этим, а он сказал: «Нам бы это больше пошло, чем им». «Ох, как крошится наш табак» - картинка того, что творилось тогда в Тифлисе: исчезли многие промтовары, и приходилось курить бракованные папиросы. А ореховый торт был подарен Надежде Яковлевне на именины… Мандельштам признавался, что после пяти лет поэтического молчания, именно это стихотворение, навеянное и жизнью тогдашней Грузии, «пришло» к нему первым и «разбудило» его.
В поэзии Мандельштама, которая с тех пор не «засыпала», Тифлис, Грузия остались жить до самого трагического конца поэта. Он вспоминал их и в ссылках после первого ареста, писал о них новые строки, оттачивал уже написанное. В своей последней обители – в царстве зла пересыльного лагеря под Владивостоком – Мандельштам мог бы услышать отголосок из прежней жизни. Ведь там же оказался и знаменитый художник Василий Шухаев, а им было что вспомнить. Нет, не о грузинской столице – ее жителем Василий Иванович стал лишь после возвращения из этой ссылки. Но именно он создал самый известный и самый красивый портрет той «Соломинки» - Саломеи Андроникашвили, в которую был когда-то влюблен Осип Эмильевич... Встретиться им не довелось, но однажды Шухаеву дали самокрутку из бумаги со стихотворением Мандельштама. Быть может, в лагере 3/10 «Вторая речка» зеки скурили и строки, посвященные Тифлису.
Владимир ГОЛОВИН |
|
«ЗАВЛЕКАЮТ В СОЛОЛАКИ СТЕРТЫЕ ПОРОГИ...» (ГУМИЛЕВ В ТБИЛИСИ) |
|

Что только не пригрезится в вечернем, морозном воздухе, когда со всех сторон ворожат рождественско-новогодние огни! Вот и сололакские поникшие особнячки-старожилы распрямляются, как в стародавние времена. Исчезают со стен морщины трещин, обретает былое великолепие литье решеток и перил, преображаются подъезды, которые некогда были воистину парадными. Того и гляди, подъедут к ним экипажи на дутых шинах, и важный швейцар торжественно распахнет массивную дверь… Вот, скажем, прямо у этого дома на углу улиц Леонидзе и Мачабели. В прошлом веке мы сказали бы: на углу Сололакской и Сергиевской. Именно в самом начале того века, а точнее, в 1900 году, так оно и происходило. Фамилия семейства, выгружавшего вещи, чтобы поселиться в доме (тогда он назывался просто: «дом инженера Мирзоева в Сололаках»), никому не была известна в Тифлисе. Разве что, только чиновникам местного отделения «Северного страхового общества», куда из Питера перевелся глава семьи. И была эта фамилия – Гумилевы. А самому младшему ее носителю Тифлис наворожил удивительные преображения.
Что же заставило Степана Яковлевича, корабельного врача в отставке, служившего на военных судах, в том числе и на ставшем потом легендарным «Варяге», покинуть столичные места, чтобы столь резко изменить жизнь и оказаться в Грузии? Да, то, что извечно руководит поступками всех родителей, включая и нас с вами – забота о детях. У старшего сына, Димы, появились симптомы туберкулеза, и врачи посоветовали южный климат. Но оказалось, что еще больше Тифлис помог младшенькому – Коле, подарив этому «гадкому утенку» поистине волшебное преображение. В ночь, когда он родился, свирепствует буря, и старая кронштадтская нянька предсказывает: «У Колечки будет бурная жизнь». Сегодня мы знаем, что так оно и случилось, но в детстве поэта ничто на это не указывало. Совсем наоборот. Мало того, что слабый, худенький ребенок мучается головными болями, доктора диагностируют еще и повышенную деятельность мозга, заявляют, что ему пока рано заниматься в подготовительном классе. Мальчик быстро утомляется, любые внешние явления, в том числе и городской шум, ослабляют организм, доводя до глубокого сна. Колю забирают из гимназии, нанимают ему домашнего педагога. И впервые в его жизнь входит слово «Тифлис» - занимавшийся с ним студент физмата Багратий Газалов был из этого города. Правда, он не сумел привить мальчику любви к математике, но очень подружился с ним. И именно он увлек будущего путешественника зоологией, а, в особенности, географией.
Повзрослев, Гумилев напишет в стихотворении «Память» о том, каким был в те годы:
Память, ты рукою великанши
Жизнь ведешь, как под уздцы коня,
Ты расскажешь мне о тех, что раньше
В этом теле жили до меня.
Самый первый: некрасив и тонок,
Полюбивший только сумрак рощ,
Лист опавший, колдовской ребенок,
Словом останавливавший дождь.
Дерево да рыжая собака –
Вот кого он взял себе в друзья,
Память, память, ты не сыщешь знака,
Не уверишь мир, что то был я.
Действительно, сегодня миру трудно представить столь слабым и болезненным участника смертельно опасных путешествий по Африке, дважды кавалера высшей боевой награды – Георгиевского креста, человека, в разгар чекистских репрессий, открыто заявлявшего: «Я – монархист». А, ведь, именно Тифлис открыл ему путь к этому – в доме на углу двух сололакских улиц исчезают и головные боли, и сонливость, и вата в ушах, а горные городские окрестности становятся местами, столь необходимыми юношеской романтике. Даже с учебой дела идут на лад. Почему «даже»? А потому, что и по состоянию здоровья, и в силу своего характера, до переезда особых успехов за партой Николай не достиг. В петербургской гимназии Я.Гуревича его больше увлекали сражения оловянных солдатиков. Заглянем, хотя бы в воспоминания преподавателя немецкого языка Ф.Фидлера: «…Все учителя считали его лентяем. У меня он всегда получал одни только двойки и принадлежал к числу наименее симпатичных моих учеников». Всего же, в 4-м классе Коля нахватал двоек еще и по греческому, латинскому, французскому. Так что, педагогический совет постановляет оставить его на второй год. Но вновь в 4-й класс он идет уже в Тифлисе – во 2-ю мужскую гимназию. И не стоит удивляться, что при этом ему уже четырнадцать лет – гимназистом-то он стал в десять. В то время это было обычным делом, в гимназиях учились восемь лет, и отправлять за парту пятилетних малышей, как ныне, было попросту немыслимо.
Кстати, именно в этом абзаце гумилевской страницы нам придется сделать еще одну сноску – чтобы внести свою первую, чисто тбилисскую, лепту в исследования жизни поэта. А конкретно – вежливо поправить уважаемых профессионалов, ведущих эти исследования. Многие из них ссылаются на известного московского литературоведа и издателя Евгения Степанова, сообщающего, что 2-я мужская гимназия находилась на Воронцовской набережной. Однако эта набережная перестала существовать за год до приезда Гумилевых, в 1899-м, превратившись в Великокняжескую улицу, где и учился наш герой. В красивом здании, через десятилетия вошедшем в историю города как Нахимовское училище, а сегодня принявшем Министерство образования. Но это – так, к слову, истины ради.
Конечно, та гимназия была хороша, ведь попечителем ее был сам Михаил Арамянц, успешный промышленник и великий меценат, именем которого тбилисцы и по сей день называют крупный больничный комплекс. И, все-таки, через полгода, отец переводит Колю в одно из лучших учебных заведений Российской империи – знаменитую Тифлисскую 1-ю мужскую гимназию на Головинском проспекте. Там, кстати, уже учился его брат. И что же? У Николая – ни одной двойки! Правда, натуру не изменишь – по всем языкам и прилежанию – трояки. Но зато по истории, географии и поведению – «отлично». Что ж, именно по последним трем из этих предметов его годами экзаменовала уже сама жизнь. И с теми же оценками!
Тем не менее, среди нарушителей гимназической дисциплины он однажды оказался – уже в 6-м классе. Запись в «Общем кондуите» от 9 мая 1903 года свидетельствует об ужасной провинности: «Был в театре без разрешения и в блузе». В графе «наказание»: «Оставлен на 2 часа в воскресенье». Вот, такие преступления и наказания… Что же касается столь не дававшегося Коле греческого языка, то переэкзаменовка по нему все же будет в 5-м классе. И, чтобы сдать ее, надо пройти через еще одно преображение – в самостоятельного путешественника. Он впервые в жизни, в одиночку, совершит большую поездку – из имения Березки, купленного семейством в Рязанской губернии, в Грузию. Вообще же, именно после того, как Николай избавляется от этого «хвоста», фактически и начинается его самостоятельная жизнь. До приезда родителей он живет у гимназического друга Борцова. А друзья по юношеской учебе, да еще в таком городе, как Тифлис – предмет особого разговора. Они появляются у Гумилева в первые же полгода пребывания в лучшей гимназии Грузии. О некоторых из них история сохранила для нас лишь фамилии. О Борцове, например, известно только то, что он был одним из самых близких и в 1912 году приезжал к Гумилеву и Анне Ахматовой в гости, в петербургские меблированные комнаты «Белград». О Глубоковском – лишь то, что он впоследствии стал художником. А вот приглядеться к двум парам братьев – Кереселидзе и Легран – мы сможем.
Итак, Иванэ и Давид, сыновья штабс-генерала Георгия Кереселидзе, кстати, выпускника той же самой славной гимназии. Старшему из них дали имя в честь знаменитого деда – одного из основателей грузинского театра, публициста, издателя первого журнала «Цискари». А еще позавидуем списку дедовских друзей: великий француз Александр Дюма, выдающийся грузинский поэт Александр Чавчавадзе и его дочь Нина – вдова Грибоедова, известный русский художник Григорий Гагарин, писавший и восстанавливавший фрески в церквях Грузии и оставивший интереснейшие ее зарисовки… Увы, сразу после столь блистательной семейной страницы – совершенно иная, в черной окантовке. Иванэ Кереселидзе-младший – среди юнкеров, пытающихся остановить 11-ю Красную армию, вступившую в Грузию. И его расстреливают в Гори вместе с соратниками. Эхо этого расстрела отдается под Питером, где в тот же самый год перед палачами стал друг его юности Николай Гумилев. Младший брат Давид, тоже юнкер, чудом спасся, был арестован в 1937-м, выпущен и погиб в автомобильной катастрофе.
А вот заводила из второй пары братьев, дружившей в Тифлисе с Гумилевым, оказался в лагере тех, кто расстреливал. Биография Бориса Леграна обычна для «разрушителей старого мира». Еще в гимназии –увлечение политикой и вступление в РСДРП, офицерский чин, участие в октябрьском перевороте. Дальше – больше: комиссар Петроградского окружного суда и Судебной палаты, заместитель наркома военно-морских дел РСФСР, один из организаторов обороны Царицына вместе со Сталиным, председатель Реввоентрибунала РСФСР, первый полпред РСФСР в Грузии, Армении и Азербайджане после их советизации… А свой бурный жизненный путь этот многогранный революционер заканчивает заместителем… директора Всесоюзной академии художеств, поработав до этого еще и директором Эрмитажа! И хотя жизнь раскидала его с Гумилевым по разным дорогам, судьба, все-таки, пусть и косвенно, сводит двух бывших гимназистов с Головинского проспекта. Будучи российским полпредом в Тифлисе, друг гумилевской юности Легран поддерживает оказавшегося здесь друга зрелого Гумилева – Осипа Мандельштама, подобрав ему непыльную работу – делать вырезки из газет. И в сентябре 1921-го именно Легран сообщил Осипу Эмильевичу, что Николай Степанович расстрелян.
Но, давайте отлистаем назад эти страшные страницы и вернемся в то время, где все это – еще впереди. А Давид, Иванэ, Борис и иже с ними – просто гимназисты, «пылкие, дикие», как называл их Николай, которому нравились в друзьях именно эти качества. Ну, а его самого Тифлис в очередной раз преображает – во «второго» героя стихотворения «Память», которое мы уже начинали читать:
И второй... Любил он ветер с юга,
В каждом шуме слышал звоны лир,
Говорил, что жизнь – его подруга,
Коврик под его ногами – мир.
Он совсем не нравится мне, это
Он хотел стать богом и царем,
Он повесил вывеску поэта
Над дверьми в мой молчаливый дом.
Так, что же это за мир на «коврике под ногами» его, 15-17-летнего? Мир уже довольно самостоятельного человека, в чем-то уже определившегося, а в чем-то – продолжающего поиски со всей пылкостью юности. Хоть и немного, но, все-таки, серьезней относясь к учебе, он готовится с репетитором к экзаменам за 6-й класс, берет и уроки рисования, увлекается астрономией. Не может не сказаться и влияние «пылкого, дикого» вольнодумца Бори Леграна, который пытается приобщить друга к политике – Николай даже начинает изучать Карла Маркса, но очень быстро оказывается, что на «коврике под его ногами» нет места политике. Зато для поэзии – это уже огромный, расшитый всеми цветами ковер. Первые попытки рифмовать Коля сделал еще в 6 лет, сразу же, как научился читать и писать. Ахматова предлагает нам такой отрывок из «творчества» 6-летнего Гумилева: «Живала Ниагара/ Близ озера Дели,/ Любовью к Ниагаре/ Вожди все летели». Ясно, что здесь и речи не может быть о какой-либо художественной ценности, но поражает, что уже тогда Гумилева влекла экзотика заморских стран. Потом появились басни, а с 12-ти лет – тетрадка стихов, которая пополняется и в Тифлисе. Конечно же, в этом пополнении, да и не только в нем, много подражательного – сказывается влияние модного тогда Семена Надсона. Заглянем, хотя бы, в альбом одной из окружавших его девушек: «Когда же сердце устанет биться,/ Грудь наболевшая замрет?/ Когда ж покоем мне насладиться/ В сырой могиле придет черед?»
Согласимся, что строки эти далеки от тех, к которым мы привыкли у Гумилева. Но, ведь, это – возраст, самое начало пути. Да и написано для девичьих альбомов, которых, кстати, становилось все больше. Николай начинает посещать вечеринки, правда, танцами пренебрегает, но зато очаровывает изысканными манерами и необычной внешностью. Он ходит по улицам Тифлиса в той же войлочной шляпе и с тем же ружьем, что и во время походов по городским окрестностям. Застенчивость же пытается скрыть надменностью. Так что, нам самое время заглянуть за «вывеску поэта». Там – очередное перерождение Николая. В печатающегося поэта. В дом на углу Сололакской и Сергиевской он приходит 8 сентября 1902 года, держа одну из самых читаемых газет – «Тифлисский листок». В ней – первое в его жизни опубликованное стихотворение «Я в лес бежал из городов…». Это, опять-таки, дань весьма востребованному тогда декадансу, трудно поверить, что 16-летний парень искренне пишет о себе:
Вот я один с самим собой...
Пора, пора мне отдохнуть:
Свет беспощадный, свет слепой
Мой выпил мозг, мне выжег грудь,
Я страшный грешник, я злодей:
Мне Бог бороться силы дал,
Любил я правду и людей;
Но растоптал свой идеал...
И, все равно, это – первый шаг на печатные страницы, это – не только предмет юношеской гордости, но и окончательное определение жизненного пути. Хотя, наверное, он и сам еще не осознает, что повзрослел – перед его фамилией в газете стоит инициал не Н. (Николай), а К. (Коля). Отец вообще не одобряет эту публикацию, но окружающие девушки в восторге: перед ними – поэт. А Гумилев влюбляется в них напропалую, причем, отнюдь не в одну. А на то, чтобы очаровать тифлисских барышень, лишнее время не тратит – его мать вспоминает, что одно и то же стихотворение он писал в альбомы сразу двух девушек, имена которых, увы, неизвестны, время донесло до нас лишь фамилии – Воробьева и Л.Мартене. Впрочем, «прекрасные дамы» на это не обижались – с Воробьевой Гумилев переписывался и после отъезда в Царское Село и даже посылал ей стихи. Скорее всего, посвященные уже только ей. А потом в его жизни снова появляется фамилия Маркс.
Но это уже не бородатый автор «Капитала», а очаровательная гимназистка Машенька – безответная любовь Николая. Если бы эта девушка ответила взаимностью, Гумилев вполне мог бы войти в театральный мир Грузии – вместе с теми, кому в Тбилисском государственном музее театра, музыки, кино и хореографии много лет была посвящена экспозиция, так и называвшаяся: «Уголок семьи Маркс». Дед Марии руководил русскими театральными труппами Тифлиса еще в середине XIX века. Отец, профессиональный актер, создал вместе со знаменитым промышленником и меценатом Исаем Питоевым Артистическое общество, в здании которого ныне Руставелевский театр, а потом стал финдиректором питоевской компании. При этом он был еще фармацевтом и владел одной из первых аптек в Тифлисе. А его сестра, Машина тетя, вообще вышла замуж за Питоева, и среди добрых дел этой пары – дебют Федора Шаляпина на оперной сцене. Впрочем, из нашего сегодня, зная, какой успех имел у женщин уже женатый Гумилев, можно предположить, что у него вряд ли сложилось бы семейное счастье с Машей. И вряд ли клан Марксов-Питоевых простил бы ему измены...
Но, как известно, история не знает сослагательного наклонения. Мария Маркс вышла в Москве замуж, была и врачом на Первой мировой, и санитаркой, и актрисой, в память о своем тифлисском детстве назвала сына Ираклием. И осталась в поэзии не стихами (как говорят, хорошими), а тем, что была первой большой любовью Поэта. Большой настолько, что, уезжая навсегда из Грузии, Николай именно ей, 14-летней гимназистке, оставил свой рукописный сборник «Горы и ущелья». Даже литературоведы, считающие стихотворения этого альбома «подражательными и ходячими романтическими штампами», признают их «биографическую ценность». А мы заглянем на последнюю страницу сборника, там – посвящение М.М.М:
Я песни слагаю во славу твою
Затем, что тебя я безумно люблю,
Затем, что меня ты не любишь,
Я вечно страдаю и вечно грущу,
Но, друг мой прекрасный, тебя я прощу
За то, что меня ты погубишь.
Что ж, М.М.М. – Мария Михайловна Маркс – никогда не забывала влюбленного в нее юного поэта и до конца жизни хранила этот альбом. Сейчас он – в Рукописном отделе Пушкинского дома. Кстати, в связи с «Горами и ущельями», интересно послушать мнение известного исследователя творчества Гумилева Алексея Павловского. Он считает: этот сборник мог бы показать, что Гумилев-гимназист был не чужд и ноты гражданственности, так как именно в Тифлисе он прошел весь краткий период увлечения общественными интересами. И добавляет: «Возможно, вспышка интереса к социальности…, все же оставившая какой-то след в душе, была связана и с англо-бурской войной, развернувшейся именно тогда, когда гимназист тифлисской гимназии писал стихи в свой альбом». А мы с вами, дорогие читатели, полностью согласившись с этим, тем не менее, позволим себе и возразить уважаемому литературоведу.
Вот, что он утверждает: «Гумилев не мог не помнить проводов на англо-бурскую войну, виденных им в Тифлисе, когда ликующие толпы провожали князя Николая Багратиона-Мухранского, решившегося отправиться на поле сражения... Какой страстной и неизбывной завистью страдали тогда все гимназисты тифлисских гимназий, а в их числе и он тоже!.. Гумилев на всю жизнь запомнил и сцену проводов, и свое пылкое желание оказаться рядом с Багратионом-Мухранским». При всем почтении к памяти Алексея Павловского, нельзя не сказать, что… ничего этого не было, и быть не могло. Потому что светлейший князь Багратион-Мухранский, он же – легендарный Нико Бур, попал в плен 5 апреля 1900 года, в неравном сражении с англичанами у Бошофа. А мать Гумилева с сыновьями выехала в Тифлис лишь 11 августа того же года. Да и никаких ликующих толп не было. В Африку, причем, не в южную, а в восточную князь выехал из Франции, просто на сафари. А о начале англо-бурской войны узнал по дороге, в Александрии. И тут же отправился сражаться на стороне буров: «Мне показалось, что их страна очень похожа на мою родину, и я почувствовал, что должен защищать их». Вот такая вторая, чисто тбилисская, лепта в исследования гумилевоведов.
Ну, а сам Гумилев, независимо от того, что потом о нем будут писать, в 1903-м навсегда покинул зеленый Сололаки, став «третьим» в своей автобиографической «Памяти»:
Знал он муки голода и жажды,
Сон тревожный, бесконечный путь,
Но святой Георгий тронул дважды
Пулею не тронутую грудь.
…………………………..
Предо мной предстанет, мне неведом,
Путник, скрыв лицо; но все пойму,
Видя льва, стремящегося следом,
И орла, летящего к нему.
Вот так, приняв болезненного мальчика, Тифлис проводил в большую жизнь мужчину. Все еще у него впереди – и Африка, и создание акмеизма, и строки, которые уже ни с кем не спутаешь. Но нота «пылкости и дикарства» из гимназических годов прозвучит еще не раз:
Да, я знаю, я вам не пара,
Я пришел из другой страны,
И мне нравится не гитара,
А дикарский напев зурны.
Не отголосок ли это тифлисской зурны?
Владимир ГОЛОВИН
|
|