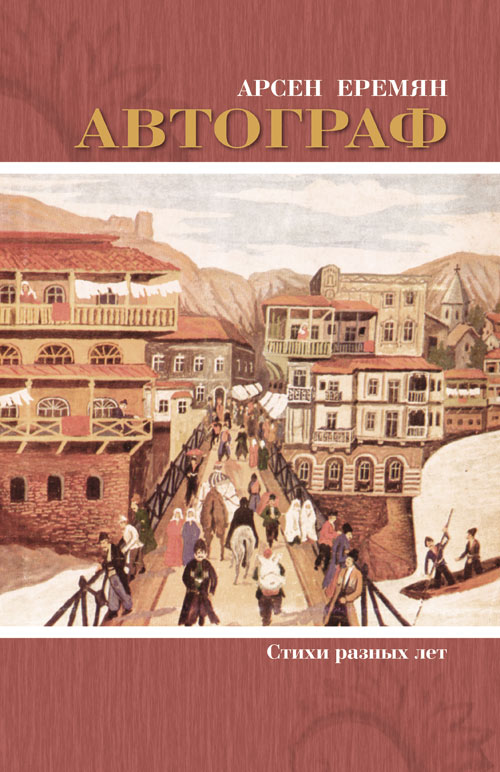|
ТВОРЧЕСТВО
Дольше всего живет надежда
Цицишвили Георгий Шалвович (1921-2005). Писатель, критик, литературовед. Академик АН Грузии. Автор сборников рассказов, монографий о грузинских писателях и взаимосвязях грузинской и русской литератур, трудов по теории литературы, истории грузинской драматургии, теории грузинского театра. В течение десяти лет был главным редактором журнала «Литературная Грузия». Председатель Союза писателей Грузии. Участник Великой Отечественной войны, сражался на Ленинградском фронте. Закончил войну в звании полковника. Свой сборник рассказов «Любовь поры кровавых дождей» посвятил современницам – героическим женщинам, участницам ВОВ. Мы публикуем в сокращении рассказ Г.Цицишвили «Дольше всего живет надежда».
Я вошел в подъезд. Стены с обвалившейся штукатуркой и толстый слой грязи на ступеньках говорили о том, что сейчас не до уборки. Я мог только догадываться, что лестница, по которой поднимаюсь, не черная, каменная, а из белого мрамора.
Одним духом взбежал я на пятый этаж и остановился перед внушительной дверью.
На двери красовалась белая эмалевая табличка. На табличке стилизованными под древнерусские буквами было выведено: «Вукол Силантьевич Бакунин». В удручающей грязи и запустении подъезда эта белая табличка показалась мне особенно чистой, я долго не мог отвести от нее глаз.
После короткого колебания протянул руку к электрическому звонку, но вовремя вспомнил, что Ленинград давно уже лишен электроэнергии, и хотел было стучать кулаками, но и этого сделать не осмелился. Наконец кое-как я преодолел свою робость и тихонько постучал.
За дверью ни звука.
Переждав немного, я снова постучал, потом еще и много раз еще, но до меня не доносилось и шороха. Тогда я стал стучать кулаком.
Прислушавшись и опять ничего не услышав, я забарабанил снова. И снова за дверью – тишина.
В отчаянии я заколотил кулаками по безмолвной дубовой двери, а потом, повернувшись спиной, начал бить ногами. Мысли, одна другой ужаснее, завертелись у меня в голове, и я с яростью отгонял их, как жалящих оводов.
Вдруг мой обостренный слух уловил слабый, едва различимый шум. Мне показалось, будто где-то в глубине квартиры отворилась дверь, затем вторая поближе, и вот к дверям, под которыми я стоял с колотящимся сердцем, кто-то приблизился медленными нечеткими шаркающими шагами.
– Кто там? – раздался слабый, бессильный и безжизненный голос. Никаких эмоций не выразилось в этом незнакомом для меня голосе.
– Мне надо видеть Лиду Каверину...
– Кто там? – повторили таким угасшим голосом, в котором по-прежнему не прозвучало никакого интереса, никакой надежды, ничего живого. Такой голос бывает лишь у глубоких стариков, чьи дни сочтены и которые говорят лишь в крайней нужде.
«Наверное, это ее старая тетка, о которой говорила соседка», – подумал я и, чтобы слова мои звучали отчетливей, приблизил губы к замочной скважине и крикнул:
– Я друг Лиды, приехал ее повидать, откройте, я все вам объясню.
– Кто это? – В интонации слабого голоса на этот раз я уловил едва заметный интерес.
– Я друг Лиды, бога ради, отоприте мне, – взмолился я и, стремясь заручиться доверием старухи, крикнул: – Вы, верно, тетка Лиды?
За дверью опять все погрузилось в тишину. Женщина долго молчала, я даже подумал, она пошла за Лидой, но нет – шагов не слышно, она стояла там же.
– А вы кто будете? – по-прежнему тихо, но уже с несомненной заинтересованностью спросила наконец она.
Я назвал себя, стараясь как можно разборчивее выговорить имя и фамилию. «Если про меня знал Балашов, может быть, и она краем уха слышала...» — обнадежил я себя.
И опять наступило молчание, на этот раз более длительное.
Я, конечно, долго не выдержал:
– Будьте добры, отворите, у меня дело к Лиде. – И, чтобы как-то ее заинтересовать, добавил: – Я и с вами хотел бы переговорить...
– Говорите оттуда, если вам есть что сказать,— еле различил я очень тихие, глухие слова.
– Отсюда?.. Но я не могу так...
– Зачем вам Лида?
Ах, эти тетушки, такие дотошные, во все они должны сунуть свой нос, все им надо знать! И, чтобы не выдать своей досады, я заговорил как можно проникновеннее:
– Видите ли, я приехал издалека, с Волховского фронта, я ее старинный знакомый... мне необходимо повидаться с ней...
– Но для чего? – уже настойчивее спросили из-за двери.
– Как то есть для чего?! – потерял я терпение. – Я столько времени вас упрашиваю, а вы никак не хотите внять моим мольбам и повторяете одно и то же!
Я готов был сказать еще что-то, но сдержался, испугавшись, что старушка может разгневаться и вовсе отойти от дверей. Но она не рассердилась, а продолжала свои расспросы:
– Откуда вы узнали, что Лида живет... – у нее осекся голос, она передохнула... – что Лида живет здесь, у меня?
– Мне сообщил это ее бывший супруг.
– Кто?
– Аркадий Балашов.
– Он обманул вас! – с неожиданной поспешностью ответила она.
– Как это обманул?!
– Очень просто: Лида уехала...
– Куда?! Куда она уехала? – вскричал я и приник к двери. С ответом медлили. Наконец, когда я уже изнемог от нетерпения, раздалось едва слышно:
– Лида уехала в Кронштадт...
– Какой ужас! – вырвалось у меня, ведь я знал, что легче мне было попасть на Северный полюс, чем в Кронштадт. – Но вы хотя бы знаете ее адрес?
– Она не оставляла адреса, – чуть слышно прошелестел ответ.
На меня навалилась нечеловеческая усталость. Я опустился на ступеньку. Она была ледяная, эта мраморная ступенька. Холод мгновенно проник сквозь одежду, но я продолжал сидеть. Не было ни сил, ни желания двигаться. На мгновение я вовсе забыл, что за дверью кто-то есть. Но она сама напомнила мне о себе:
– Товарищ... друг мой, вы ушли... или вы все еще здесь?
– Я здесь.
– Отчего же вы все стоите?
– Уйду... я уйду... но прежде откройте мне дверь, я хочу вам что-то передать.
– Что вы хотите передать?
– Кое-какие продукты... самую малость... Она молчала долго. И я молчал.
– Прошу вас, не обижайте меня отказом, поверьте, это от чистого сердца, – заговорил я.
За дверью продолжали молчать. Видимо, она колебалась. Но для измученного беспощадным голодом живого существа искус оказался непосильным. Я услышал, что она отпирает двери. Загремели засовы, щелкнули замки, и дверь стала медленно отворяться.
Страшный запах сырости и затхлости, пахнувший на меня из темной прихожей, на мгновение заставил меня отпрянуть назад.
В прихожей было настолько темно, что некоторое время я не мог разглядеть, кто стоит передо мной.
Когда глаза привыкли к темноте, я увидел согбенную старуху, страшно худую, до невозможности худую, которая пристально и пытливо вглядывалась в меня.
Белые как снег, редкие спутанные волосы какими-то клочьями спадали на костлявые плечи; на тонкой высохшей шее – худое, с кулачок, лицо, вместо щек – провалы... Скулы, обтянутые пергаментной кожей, резко выделялись. Словом, это был череп, эмблема смерти, как принято ее изображать.
Было заметно, что несчастная только что поднялась с постели.
На плечи накинута какая-то ветошь, от пояса до самого пола ниспадала рвань, бывшая когда-то пледом. Видимо, так, не раздеваясь, лежала она в постели и ждала смерти.
Кто знает, сколько дней и ночей пролежала она, не имея ни крошки во рту, изнемогая от голода и холода, не поднимаясь, потому что уже не было никакого смысла вставать с этого ложа.
...Она стояла, одной рукой опираясь о косяк двери. Бедная женщина настолько обессилела и ослабла, что без этой опоры просто упала бы там же, на пороге. И смотрела на меня так пристально, что я почувствовал неловкость.
Но более всего поразили меня ее глаза. Они не были потухшими, какие бывают обычно у древних старух, и странно сверкали. «Бедная, – подумалось мне, – это, верно, агония...»
– Входите, пожалуйста. – И, отняв руку от двери, повернулась, но от слабости покачнулась и, не поддержи я ее за руку, наверняка упала бы.
Рука была хрупкая, тоненькая, как щепочка. Я испугался, что эта ее рука может переломиться в моей. Щемящая жалость к обреченному на голодную смерть человеку сжала мое сердце.
Еле волоча ноги, неверными шагами брела она, опираясь на мою руку, по затхлому коридору. Мы вошли в большую мрачную комнату. Заметив стоящий при входе стул, я хотел было усадить ее, но она склонилась и сама, уже без моей помощи, направилась к столу посреди комнаты. Держась за край стола, добрела она до противоположного конца стола и, окончательно обессилев, не села — упала на стул.
Несколько секунд протекли в молчании.
Я огляделся и снова остановил взгляд на старухе. Она сидела, подперев подбородок ладонью, и молча глядела на меня.
Мне вспомнилась моя бедная бабушка, которая вот так же могла пристально смотреть. Сердце мое преисполнилось неизъяснимой жалости.
Я плохо видел лицо хозяйки дома: она сидела спиной к окну, а я лицом. Свет, падавший из окна, мешал мне. Вероятно, она умышленно распределила стулья между нами таким образом.
Она сидела безмолвно, тихо, казалось, и не дышала. Но глаза ее по-прежнему блестели, они излучали какой-то необыкновенный фосфоресцирующий свет, совсем как глаза кошки в темноте.
От ее упорного взгляда мне стало не по себе. Не выдержав, я встал. Положил на стол вещмешок и принялся его развязывать.
Глаза старухи засветились еще ярче, мне показалось, что она шевельнулась в нетерпении, но тотчас взяла себя в руки и продолжала сидеть неподвижно, как изваяние.
На какой-то миг я с испугом подумал, вдруг она умрет у меня на глазах. Бедняжка продолжала сидеть все в той же позе, только смотрела сейчас не на меня, а на вещмешок.
Чтобы нарушить неловкое молчание, я спросил:
– Так вы наверняка знаете, что Лида в Кронштадте? – Она подняла на меня глаза и смотрела не отрываясь.
– Да, – едва слышно промолвила моя собеседница и вдруг тряхнула головой совсем так, как делала это Лида, отбрасывая назад волосы.
«Видно, в свое время тетка с Лидой были похожи».
– Как она там, интересно? – словно про себя проговорил я.
Но вот чудо: памятная мне, только сейчас очень слабая вымученная улыбка тронула изможденные черты, и тут я снова увидел в ней что-то до боли знакомое.
– Лида чем-то похожа на вас.— Я пристально поглядел на нее.
Она улыбнулась той же вымученной улыбкой. Бесцветные губы на мгновенье разомкнулись, и я понял, что у нее не осталось ни одного зуба.
Эта улыбка возбудила но мне новый прилив сострадания и жалости, я торопливо выложил из вещмешка консервы, хлеб, колбасу, немного сахару — все, что я смог приберечь, и собрался уходить.
Старуха остановила меня движением руки.
– Благодарю вас за подарок... У меня к вам большая просьба: не забывайте Лиду...— Голова у нее затряслась, она уперлась обеими руками в стол, пытаясь встать, но не сумела. Силы окончательно покинули ее.
– Прощайте, – проговорил я в крайнем волнении и не вышел – выбежал из комнаты.
Сильным рывком растворил полуприкрытую тяжелую входную дверь и, с силой же захлопнув ее за собой, спустился по лестнице.
Когда я проходил мимо окошка, давешняя старушка в очках, словно поджидая меня, распахнула форточку и крикнула:
– Ну что, видел Лиду?
– Нет, – отозвался я, – она переехала в Кронштадт, меня встретила ее тетушка...
– Чего, чего? – прервала меня старушка.— Обожди-ка, милый, я сейчас выйду.
Она и вправду вышла ко мне и с удивлением переспросила:
– Кто, говоришь, в Кронштадт переехал?
– Лида, – ответил я, несколько озадаченный.
– Господи, прости, – проговорила старушка и перекрестилась. – Да разве ж она могла в Кронштадт уехать, уж такая плохая, вот-вот душу богу отдаст. — Подняв голову, она поглядела на окна пятого этажа.
– Что это вы говорите? – ужаснулся я, и досада охватила меня. – Ведь получилось, что тетка не допустила меня к Лиде, выставила ни с чем... Но почему она так поступила? — Я направился было обратно, чтобы снова взбежать по той же лестнице на пятый этаж.
– Постой, постой, сынок, – засеменила за мной старушка, – какая там еще тетка, об ком это ты говорил?
– Да Лидина тетка! Которая дверь мне открыла и сказала, что Лида переехала в Кронштадт!..
– Ох, да тетка-то ее, Мария Федоровна, четыре месяца как в сырой земле лежит!
– Так кто же была та старуха, которая со мной говорила? – вскричал я, чувствуя, как у меня в жилах застывает кровь.
– То ж сама Лида и была, сынок!.. В глазах у меня потемнело.
– Ну да, она и была, Лида. Не признал? Да уж куда там, конечно, не признал, ведь этакая красавица была, голубонька, а во что обратилась... Э-эх, миленький, люди сами на себя теперь не похожи, нет, не похожи!..
Ничего больше я не слышал. Сорвавшись с места, понесся к подъезду Лиды. Я бежал, не чуя ног. Одним духом взлетел по лестнице и остановился перед той дубовой дверью, которая опять была заперта.
– Лида! Лида! – кричал я, не помня себя, и что было мочи колотил в дверь.
Ни звука не раздавалось изнутри.
– Лида, Лида, отвори мне дверь, на одну лишь минуту отвори!..
Убийственная тишина была за дверью.
– Знай, я не уйду, Лида, я шагу отсюда не сделаю, я пробуду здесь всю ночь! Лида, не бери грех на душу, открой!..
Тишина... Тишина... Тишина...
– Товарищ командир, товарищ командир! – послышался голос снизу.
Перегнувшись через перила, я взглянул вниз.
Старушка в очках стояла на площадке нижнего этажа и махала мне рукой.
– Сойдите сюда, я до верху не доберусь, ноги не слушаются,— просила она.
Я спустился.
– Послушайся старую женщину, как мать тебе говорю: не ломись к ней. Может, и не хочет Лида перед тобой показаться, стыдится своего вида. Оставь ее, пощади, ей своего горя хватает. Приходи в другой раз, завтра, послезавтра приходи... коли будет на то воля божья, помогу я тебе с ней свидеться... А сейчас ступай себе с миром, сынок. Уходи... Я живу в соседнем дворе, а окошечко, из которого я тебя углядела, это наша дежурка, значит, понял?.. Ступай, ступай, храни тебя Господь...
Я очнулся, вскинулся.
– А вдруг за это время с ней что-нибудь случится? Она такая слабая...
– От своей судьбы не уйдешь. Но бог милостив... ежели захочет он вашей встречи... – Она, не договорив, осенила себя крестом.
По сей день не вспомнить, как я очутился на Лиговке...
Когда я вошел в пустую обшарпанную комнату Кустова, она уже не казалась мне такой унылой и мрачной.
Трое наших шоферов и взводный с азартом стучали костяшками домино.
Ребята сняли с грузовой автомашины маленькую печурку, втащили в дом, разожгли припасенными еще в части дровами. В комнате стало тепло. Время от времени, встав на колени перед печуркой, кто-нибудь из ребят ворошил огонь, подкладывая поленце.
Кустова еше не было.
Меня позвали играть, но я отказался. Подняв воротник полушубка, я улегся в том же углу, где провел минувшую ночь.
Закрыл глаза, и недавние картины поплыли передо мной. Мне страстно захотелось увидеть в согбенной седоволосой старухе с запавшими щеками ту обворожительную, прекрасную, жизнерадостную женщину с гордой осанкой, плавной походкой, с упругим и красивым молодым телом, женщину, при взгляде на которую у мужчин начинала бурлить кровь.
Но нет, не смог я сблизить эти столь разные облики одного и того же человека.
...Привиделся мне мой любимый Зеленый Мыс, сверкающий в лучах южного солнца, утопающий в буйной зелени, благоухающий, пьянящий всех и хмельной сам... Опять увидел я лазурь высокого неба и тихую гладь дремотного моря... Лида выходит из воды, белокурые локоны подхвачены голубой косынкой... купальник в голубую полоску подчеркивает ее стройность... Она направляется ко мне смеясь, обеими руками держа прозрачную медузу, которой намерена напугать меня... А я лежу на горячем песке, и сердце мое полно сладостного блаженства...
– Товарищ майор, наши документы уже у меня в кармане, мы отправляемся за машинами. Ждите нас здесь.
Это капитан Кустов. Он вернулся из штаба. Ребята собираются.
Печурка погасла. В комнате холодно. Короткий зимний день догорел, вот-вот стемнеет.
– Хорошо. – Я поворачиваюсь на другой бок, натягиваю повыше воротник, плотнее закутываюсь в полушубок. Силюсь вернуть ускользнувшее видение, но Кустов сводит на нет все мои усилия.
– Возможно, нам придется ехать ночью, – говорит он, – необходимо подготовиться. Я прихватил с собой картон, он лежит в нашем фургоне. Надо нарезать из него круглые щиты на машинные фары. Вы, верно, знаете, как маскируют фары?
– Знаю, – сквозь зубы подтверждаю я.
Стремительно наступает ночь. День прошел, а мне не хочется ни есть, ни пить.
Спускаюсь на улицу, где у самого тротуара стоит наша машина, забираю картон из кузова; ниткой, которая вместе с иглой хранится в подкладке моей шапки, вымеряю диаметр фар, потом возвращаюсь обратно в комнату и начинаю нарезать кругами картон...
У меня нет сил думать.
...Ночью, когда я прибыл на батарею, Астахов чуть не задушил меня в объятиях. Словно мы год не видались.
– Ну, брат, я тебе такое скажу, только держись! – заявил он.
Его сообщение действительно взволновало меня: из политуправления под строгим секретом сообщили, что в середине января единым ударом Волховского и Ленинградского фронтов мы должны прорвать блокаду и освободить замученный город из тисков врага.
До назначенного срока оставалось совсем немного времени.
Произошло все так, как сказал Астахов: 12 января 1943 года в девять тридцать началась артподготовка, в которой участвовала и моя батарея.
На участке фронта наших двух армий – 2-й Ударной и 8-й – одновременно грянули более двух тысяч пушек, а несколько сот выдвинутых на передовую черту дальнобойных орудий прямой наводкой ударили по вражеским позициям. Земля и небо содрогались от оглушительного грохота.
Артподготовка длилась уже более двух часов. И с каждым новым залпом лица моих ребят становились все более ликующими, вопреки опасностям и усталости. Стволы орудий так накалились, что нельзя было до них дотронуться.
Запас снарядов стремительно таял. От пустых патронов, сгрудившихся у орудий, поднимался пар.
Координаты стрельбы, передаваемые с командного пункта, все время менялись, и, выкрикивая цель, я совершенно осип.
Цель перемещалась в глубь линии обороны немцев, а значит, наши части успешно продвигались вперед и, возможно, где-то уже прорывали вражеские позиции.
По прошествии примерно трех часов командир полка с особым подъемом отдал приказ: «Ласточка», – это было шифрованное наименование моей батареи, – на колеса и – вперед!»
И мы пошли!
Мы снялись с мест, завоеванных ценой смертельных боев почти полтора года назад, оставив за собой рубежи, омытые шестнадцать месяцев назад потоками крови.
Мы шли к земле, на которую мечтали вступить ежедневно, еженощно, мы шли в Ленинград!..
Все были охвачены таким страстным единодушным порывом, что двадцатиградусный мороз был нам нипочем – мы не ощущали его. Мы прошли узким коридором, пробитым нашей артиллерией и авиацией среди проволочных заграждений, и преодолели первую линию обороны противника.
Особенно доблестно поработали наши атакующие части: фашистские окопы были разворочены, на брустверах – навалом земля. Изрешеченный разрывами мин и снарядов снег щедро засыпан черной смерзшейся землей. Все это безмолвно повествовало о смертоносном урагане, пронесшемся здесь. Повсюду валялись трупы гитлеровцев. Медперсонал оказывал помощь раненым бойцам.
Стоял адский гул, от которого глохли уши. Гремели орудия, трещали пулеметы, шумели моторы.
Вместе с нами по проложенным на скорую руку дорогам пыхтя двигались транспорт и техника. Везли орудия, ящики со снарядами и самые разные другие грузы. Вразнобой шагало свежее пополнение – подразделения стрелковых частей. Все стремилось, рвалось вперед. «На Ленинград!» – белыми буквами написали мы на стволе огромного дальнобойного орудия.
Гитлеровцы оборонялись с яростным ожесточением. Почти неделю длились кровопролитные бои.
По прошествии шести дней с начала наступления, шести страшных, трудно представляемых дней, утром восемнадцатого января по солдатскому «телеграфу», самому надежному и быстрому среди средств связи – из уха в ухо, прилетела весть: передовые части Ленинградского и Волховского фронтов соединились! Блокада Ленинграда прорвана!
В те дни все мы ходили как пьяные, все мы только и поздравляли друг друга с победой.
Недели две спустя, когда мы расположились на новых позициях и бои немного поутихли, стало известно, что на отвоеванной у врага узкой полосе земли около семи-восьми километров шириной со дня на день будут проложены рельсы и в Ленинград побегут составы.
И вправду, очень скоро в Ленинград отправился первый поезд.
С этого времени я потерял покой. Я думал только о том, как бы мне попасть в Ленинград и повидать Лиду.
Месяца через два после прорыва блокады наш отдельный артиллерийский полк, который относился к так называемому Резерву Главного Командования и передислоцировался с одного участка на другой (вследствие чего подчинялся то одному общевойсковому соединению, то другому), был переброшен в распоряжение Ленинградского фронта, так что однажды мы очутились в небольшом поселке под Ленинградом.
Об этом я не смел и мечтать: моя батарея стояла в пригороде Ленинграда!
И вот я дождался желанного дня. Закончив свои дела, светлым утром, когда в воздухе уже веяло весной, когда под защитой елей и сосен голубели последние снега, а кое-где появились на солнышке проталины, я сменил валенки на новые яловые сапоги, уложил в вещмешок свой офицерский паек (несколько банок консервов, буханку хлеба, немного сахару) и зашагал по дороге, ведущей в Ленинград.
Город начался как-то внезапно. И так же внезапно открылись раны, нанесенные ему обстрелами и налетами врага.
Среди полуразрушенных домов лежали груды битого кирпича и разных обломков. В кирпичных красных стенах, как чудовищные клыки, торчали деревянные балки, местами обугленные, местами контрастно светлые...
В кучах мусора и обломков валялись предметы домашнего обихода. Чего только здесь не было: спинки кроватей, ножки столов, развалившиеся стулья, письменные столы, дверки старинных резных буфетов, обломки зеркал, рамы для картин...
Все утратило свой первоначальный облик, все было обращено в мусор, в прах и являло страшную картину разрушения.
Я шел мимо этих ужасных курганов, этих немых свидетелей небывалого бедствия, и дрожь пробирала меня.
Разве узнать, сколько жизней оборвалось здесь, сколько заживо похороненных под этими грудами кирпича и камней! У меня было такое чувство, словно я шагаю по мертвым телам.
Шел я по удивительным улицам Ленинграда, смотрел на его искалеченные дома и руины и поражался тому, что, несмотря на страшные разрушения, на небывалое разорение, город сохранил свою гордую суровую красоту. Он изумлял строгим величием, стройностью, всем своим неповторимым, лишь ему одному присущим обликом. Я шел и созерцал этот город, то восхищаясь, то ужасаясь картинам, открывающимся передо мной.
Но о чем бы я ни думал, на что бы ни глядел, моя главная дума ни на минуту не покидала меня. Лида... Как она встретит меня? Захочет ли видеть? Как она сейчас себя чувствует? Ведь снабжение Ленинграда улучшилось.
Особенно трудно было вообразить первые минуты нашей встречи. Как это будет? Как я должен себя вести? Чем ближе подходил я к ее дому, тем невыносимей были мои терзания.
Город уже начали расчищать. С приближением к центру мне все чаще встречались люди с ломами, лопатами, кирками. Работали группами. Все больше женщины в ватных штанах и куртках.
Я наконец увидел созидание, увидел, как люди трудятся, хотя до мира было еще так далеко.
Немцы продолжали стоять всего в двадцати километрах от Ленинграда. Он все еще оставался в осаде, и вражеская артиллерия на дню несколько раз обрушивала огонь на его улицы и площади, а немецкие самолеты по нескольку раз в день навещали его.
Но те женщины с кирками, пусть неумелые, пусть слабые, все же обнадежили и ободрили меня.
...Вот уже и семнадцатый номер, рядом дом номер девятнадцатый, а рядом... ...Постой, постой!.. Что же это? Разве не здесь должен быть дом двадцать один? А здесь пустырь... И какие-то развалины...
Наверняка я что-то напутал!
Я бегу обратно, к началу улицы, прохожу ее снова, тщательно проверяю номера домов. И вот опять семнадцать, девятнадцать...
Где же двадцать один?! Может быть, я перепутал улицу?
Я бегу как угорелый назад, к перекрестку, читаю табличку: «Четвертая Советская»...
Мелькнувшая страшная догадка раскаленным железом пронзила мозг. Я вдруг лишился сил и прислонился к стене. Совсем так, как Лида тогда прислонилась к дверному косяку... Ее дома не существовало!
Георгий ЦИЦИШВИЛИ
Перевела Камилла-Мариам Коринтэли
Цицишвили Георгий Шалвович (1921-2005). Писатель, критик, литературовед. Академик АН Грузии. Автор сборников рассказов, монографий о грузинских писателях и взаимосвязях грузинской и русской литератур, трудов по теории литературы, истории грузинской драматургии, теории грузинского театра. В течение десяти лет был главным редактором журнала «Литературная Грузия». Председатель Союза писателей Грузии. Участник Великой Отечественной войны, сражался на Ленинградском фронте. Закончил войну в звании полковника. Свой сборник рассказов «Любовь поры кровавых дождей» посвятил современницам – героическим женщинам, участницам ВОВ. Мы публикуем в сокращении рассказ Г.Цицишвили «Дольше всего живет надежда».
Я вошел в подъезд. Стены с обвалившейся штукатуркой и толстый слой грязи на ступеньках говорили о том, что сейчас не до уборки.
|